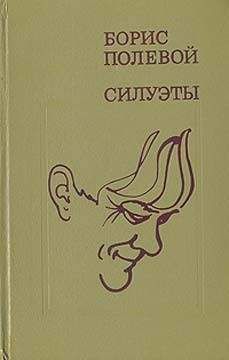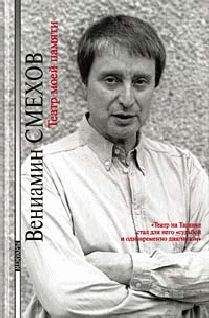Алексей Максимович!
Мы надеемся, что свой юбилей Вы будете праздновать в новой России — на своей родине.
Советскому Союзу есть что показать своему писателю. Десять лет революции внесли огромные изменения, произвели большой переворот во всех областях работы, жизни и быта страны.
От векового экономического угнетения, от бесправия масс — к их освобождению, к осмысленному участию масс в управлении своим государством. От духовной кабалы, темноты и невежества — к пышному расцвету сил и возможностей, к невиданному до сих пор подъему народного творчества.
Например, нашу газету заливает прибой рукописей из города и деревни. Масса стихов, очерков, рассказов свидетельствует о большой жажде молодежи к творчеству… Наряду с этим мы наблюдаем исключительный подъем интереса и любви молодежи к литературе…
Повторяем, что наша молодежь терпеливо будет ждать выполнения Вашего обещания — художественно отразить нашу жизнь, приехать к нам в Советскую республику.
Мы были бы рады видеть Вас в Твери. Здесь мы можем показать Вам фабрики, принадлежащие уже не богачам Морозовым (одного из которых вы описали), а всем трудящимся.
Мы можем показать Вам просторные, светлые клубы, школы и рабфаки, детские сады и ясли, показать новые отношения между людьми, показать все, чего никогда не было, да и не могло быть при Морозове.
Ваш приезд явился бы большим праздником для нашего города, для нашей губернии.
Выражая эту просьбу рабочей и учащейся молодежи Твери, расширенная редакция „Смены“ еще раз передает ее горячий привет и пожелания творческой работы своему любимому писателю».
Потом состоялась церемония подписания этого послания. Именно церемония. Кроме сотрудников редакции под ним поставили свои подписи десятки юнкоров с фабрик, заводов, из деревень, для чего иным приходилось отшагать немало верст по очень негладким проселочным дорогам того времени.
Так и возникли добрые отношения между Горьким и тверскими комсомольцами, которые наш знаменитый корреспондент назвал потом дружбой.
РЕШЕНИЕ МОЕЙ СУДЬБЫ
Тут перо мое начинает дрожать, ибо я приступаю к описанию одной лихой газетной затеи, которую до сих пор не могу вспоминать без содрогания. Газету «Тверская правда» вел в те дни Алексей Иванович Капустин — самый инициативный редактор из всех, какие только потом попадались мне на моем уже длинном газетном пути. Блестящий выдумщик, держащий руку на пульсе жизни, он всегда был озабочен, чтобы газета, под которой стояла его редакторская подпись, была не только боевой, не только умной, но и обязательно интересной.
— Нет на свете ничего скучнее скучной газеты, — поучал он молодых журналистов.
Дни студенческих каникул я целиком отдавал газете, и Капустин избрал меня одним из исполнителей этих своих затей. Так, одно лето, чтобы потом дать несколько очерков о тверской деревне, где в те дни еще только пробивались первые ростки коллективного землепользования, я проработал избачом в селе Микшино — центре тверской Карелии. На другое лето, когда потребовались очерки о лесозаготовках и лесосплаве в волжских верховьях, он командировал меня к истокам Волги в село Селижарово. Там я определился рабочим в сплавную контору, участвовал в сплачивании плотов, а потом на гонках в качестве «заднего кормового» прошел путь от волжских верховьев до города Рыбинска, изрядно при этом заработав, ибо гонщикам, как в наших краях звали плотовщиков, в те дни платили куда больше, чем газетным репортерам. Ну, а пока течение неторопливо несло гонки вниз по реке, писал по ночам у костра очерки «На плотах».
Нэп в те дни был уже на закате. И время это было отмечено ростом преступности, проституции и всяческих иных потайных зол. Параллельно с большим миром, начинающим строить социализм, возник эдакий подпольный маленький, очень ядовитый мирок, который стал мешать миру большому делать свои благородные дела.
Так вот, неугомонный наш редактор вызвал однажды меня к себе. Запер дверь кабинета и таинственно сказал:
— Вот что, ты был избачом и гонщиком. Получилось. А теперь становись блатняком. Понимаешь, поживи в их блатной шкуре, подгляди, что там у них и как, связи их повысмотри, кто им помогает, кто им ворожит. Понимаешь? А потом грохнем серию разоблачительных очерков, всю эту шваль будто шляпой накроем. Ну как, нравится такая затея? Чего молчишь? Слабо? Штаны мокрые?
Я переминался с ноги на ногу.
— С кем надо, это согласовал. Если угодно, можешь рассматривать как комсомольское задание. Только, чур, не болтать, могила. Согласен? Вот и хорошо. Чекисты тебя оборудуют. У тебя, кажется, в Москве есть тетя? Тетя Маня? Вот и хорошо. Ну так для всех ты уезжаешь к своей любезной тете Мане, навестить старушку. Она хворает. Понял?
И вот, соответственно преображенный, я как бы влез в шкуру молодого московского налетчика, запасся явками, крупными купюрами с переписанными номерами для дачи взяток и, больше чем на две недели, так сказать, опустился на дно. Свыкся со страшным бытом, настолько вошел в роль, что, обнаглев, однажды явился в собственную редакцию, якобы в сильно пьяном виде, затеял в бухгалтерии большой шухер и был изгнан в шею сотрудниками отдела информации, где, как известно, по традиции работают самые дюжие люди. Изгнан и не узнан — вот в чем был репортерский шик.
Серия очерков, написанных в результате этого моего похода, по причинам, от редактора не зависящим, напечатана не была, и друзья из тверской ассоциации пролетарских писателей, которых сокращенно называли «таппами», помогли мне сбить эти очерки в книжку. Книжке этой дали устрашающее название «Мемуары вшивого человека». Мой старший друг — поэт и партработник Александр Ярцев — написал к ней доброе предисловие, и вскоре она увидела свет.
Отчетливо сознаю, что качества этого моего первого книжного труда были весьма сомнительны. И вспоминать о нем я не стал бы сейчас, если бы не события, развернувшиеся впоследствии. Жажда тем для продолжения диалога, завязавшегося с Горьким, надоумила моих сменовских друзей послать эту книгу в Сорренто. Это было сделано без моего ведома. Узнав об этом, я не только огорчился, но и здорово рассердился: оторвать золотое время Горького на чтение моего скороспелого труда… Тут есть от чего покраснеть.
Каково же было общее удивление, когда вскоре из Сорренто пришел довольно толстый конверт. Оказалось, что Горький не просто прочел книгу, но прочел, так сказать, с карандашом, по-редакторски, и нашел время ответить пространным письмом на шести рукописных страницах.
«Б. Полевому.
Товарищ Ярцев находит, что язык Ваших очерков „солен, меток, богат образами“. Давайте разберем, так ли это.