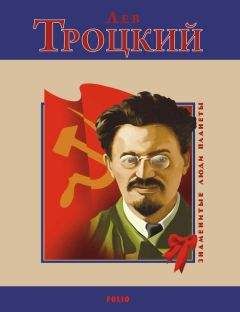Не знаю, как Бронштейн тогда отнёсся к плану сфабриковать революцию за 100,000 рублей путём наводнения России печатной бумагой. Его упорные попытки теперь, когда он уже находится в зрелом возрасте, ввести социализм путём наводнения страны декретами, заставляет думать, что идея приезжего изобретателя тогда глубоко засела у него в голове. Опытом лишь обнаружено, что к этой простой идее необходимо не менее простое дополнение в виде усекновения голов, неспособных должным образом воспринять эти декреты.
Как бы там ни было, но идея оборудовать маленькую типографию Бронштейну, понятно, весьма улыбалась. Вся задержка была лишь в необходимых для этого ста рублях. И мечту эту ему тогда так и не удалось осуществить.
В другой раз он пришёл с проектом печатать нелегальные брошюры в типографии его дяди. По обыкновению, представленный им план, был заранее детально разработан, и все мелочи и случайности тщательно предусмотрены. Он подробно узнал процедуру, которой подвергаются рукописи в типографии, проходя через цензуру, и придумал простой способ обойти её: после того, как легальная рукопись одобрена цензором, она вся удаляется, за исключением обложки и страницы с подписью цензора, и вместо неё вставляется нелегальный текст.
Ему всё это легко было, по его словам, устроить, так как, пользуясь доверием дяди, он имел свободный доступ к его типографии и без труда мог поместить там своего человека, в качестве наборщика.
Он отлично звал, что этим способом, если бы он и удался, вряд ли можно было бы воспользоваться более одного раза; во всяком случае, скорый провал его был неизбежен. И при провале, дядя его, не имевшему никакого отношения к революции и не питавшему сочувствия к революционной деятельности своего племянника, грозило многолетнее тюремное заключение и ссылка в Сибирь с закрытием типографии и, стало быть, полным, разорением семьи. Но эти мелочи Троцкому и в голову не приходили. Проект, однако, не встретил сочувствия по причине этих именно «мелочей» и не был приведён в исполнение.
В августе 1897 года я уехал в Казань доканчивать своё университетское образование. После моего отъезда работа нашей организации продолжала расти и расширяться. Литературная деятельность Бронштейна и других, несмотря на то, что по-прежнему приходилось прибегать к услугам примитивного гектографа, также быстро росла.
Неукротимая энергия Бронштейна била ключом. Он затеял выпускать газету, под названием «Наше Дело». Первый номер был выпущен в количестве 200–300 экземпляров. Несмотря на то, что газета была гектографирована, она в техническом отношении представляла верх совершенства, не только не уступая печатным изданиям подпольного происхождения, но даже превосходя их. Все статьи были написаны печатными буквами, чётко, красиво. Материал был обильно иллюстрирован картинами, очень хорошо выполненными. Так, описанная в газете стачка мясников в Париже, была иллюстрирована несколькими картинами-карикатурами, талантливо составленными самим Бронштейном. Для этих картин он просмотрел юмористические журналы за несколько лет и позаимствовал все, что хоть сколько-нибудь подходило к тексту статьи, часто комбинируя заимствованные иллюстрации, видоизменяя их и т. п.
Всю самую существенную часть технической (не говоря, само собою разумеется, о литературной) работы вынес на своих плечах Бронштейн.
Вышло всего три номера «Нашего Дела». Газета имела необычайный успех не только среди рабочих, но и во всём городе. Все говорили о «Нашем Деле». Градоначальник сам обходил мелкие мастерские для того, чтобы проверить сообщённые в «Нашем Деле» факты ужасного обращения с «учениками».
В январе 1898 года, когда 4-ый номер «Нашего Дела» был весь составлен и вполне приготовлен для гектографирования и даже отчасти отгектографирован, вся организация сверху до низу, от первого до последнего члена, была арестована. Остался на свободе один я, который в это время находился в Казани.
Глава третья
В тюрьме
Два года в одесской тюрьме. — Старший надзиратель Троцкий. — Переписка с Бронштейном в тюрьме. — Внезапный поворот к марксизму. — Голодовка. — Припадок эпилепсии
В марте 1898 г. был арестован и я. В апреле я очутился в Одесской тюрьме, где уже находились Бронштейн и все другие, привлекавшиеся по нашему делу. Тюрьма эта была образцовая, построенная согласно новейшим требованиям тюрьмоведения, в виде креста. Каждое крыло креста состояло из высокого коридора, по обе стороны которого были расположены камеры в четыре этажа. Двери каждой камеры открывались на железную галерею, идущую вдоль всего этажа. Галерея каждого этажа железной лестницей соединялась с галереей соседнего верхнего и нижнего этажа; кроме того, каждая галерея сообщалась с соответствующей галереей по другую сторону коридора при помощи железного мостика.
Внизу, в центре, где сходились все четыре крыла тюрьмы, стоял старший надзиратель тюрьмы, которому как на ладони, была видна вся тюрьма, содержавшая около 1000 обитателей. Никто не мог войти в камеры или выйти из них, не будучи замеченным им. Ничто, происходящее у дверей камер или на галереях, не могло ускользнуть от его взора. Если младшие надзиратели хотели (за мзду, конечно) делать поблажки отдельным арестантам, то они могли это делать только с согласия старшего надзирателя, тоже не безвозмездно, разумеется.
В случае малейшего нарушения порядка, все надзиратели, по мановению руки старшего надзирателя, в момент могли, по лестницам и мостикам, соединяющим галереи, ринуться к требуемому стратегическому пункту.
Не только все арестанты были в почти бесконтрольной власти старшего надзирателя, но также и младшие надзиратели были в полной зависимости от него и боялись его не меньше, чем арестанты. И арестанты и надзиратели не дрожали так перед начальником тюрьмы, как перед ним. И, действительно, фактически хозяином тюрьмы был он, а не начальник.
Идя на прогулку, свидание и т. п., я каждый раз видел величественную фигуру старшего надзирателя, опирающегося на длинную саблю и орлиным взором фельдмаршала озирающего свои владения и чувствовавшего себя царьком, и, поистине, он был царьком.
Фамилия этого старшего надзирателя была — Троцкий.
Однако политические заключённые были исключены из его ведения. Режим для них был значительно более суровый, чем для уголовных. Надзор за ними был поручен двум жандармам, и тюремные надзиратели к ним совсем не допускались. Изоляция соблюдалась самая строгая. Принимались самые тщательные меры к тому, чтобы воспрепятствовать им какое-либо сношение друг с другом. Рядом со мною, в соседней камере, сидел товарищ по делу, с которым я все время перестукивался; но увидеть его мне впервые удалось лишь после того, как мы были с ним такими близкими соседями в течение года.