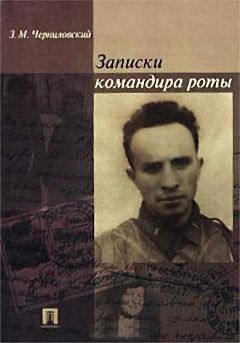Отлогий берег вел к недалекой реке. На том берегу были видны укрепления, между школой и каким-то строением прошелся неспешным шагом немецкий солдат.
— И долго вы думаете продержаться в этом доте, сержант? — спросил я.
Тот смутился: "Действовали по приказу, товарищ командир роты. У нас все так строят. На случай атаки. Место видное, обзор опять же".
Ответ сержанта, как я видел, пришелся по душе батальонному.
— Пошли дальше, — сказал он, — тут у меня под мостом бессменный часовой стоит. Тоже обзор.
Мы пошли улицей, удаляясь от центра к окраинам. Сержант возвратился в дом, но не прямо, а огородом, что-то подбирая или срывая с уже опустошенных грядок.
На пути оказался мостик через ручей (или что-то в этом роде), и мы спустились вниз. Часового не было на месте, и отыскался он дремавшим на бревне, замаскированным каким-то уже оголившимся от листьев кустом.
И тут разыгралась отвратительная сцена, завершавшая процесс прозрения, начавшийся с мешковских "людишек".
Батальонный приказал несчастному пехотинцу, которого, как оказалось, забыли сменить, стать под дуло пистолета.
— От имени Родины, от имени товарища Сталина я тебя обязан расстрелять. Ты это понимаешь?
Ответа не последовало. Все во мне бурлило, и в каком-то смятении чувств, по какой-то чудовищной аберрации я вдруг вспомнил пушкинское "Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни…".
— Понимаешь, отвечай, или нет?
И тут вмешался Мамохин. Не я — с языком, будто прилипшим к небу. Мамохин.
— Больной он, товарищ командир батальона. В падучке вчера валялся…
Батальонный, казалось, только этого и ждал.
— Ну вот что. В последний раз тебя прощаю, понял, гад? Нам отступать некуда, за нами Москва. Ты это учти. Сознаешь?
И тут я вспомнил: "Трус он". Как я раньше не подумал?
…И чтобы уже не возвращаться к нему. Каждое утро, подернутое туманом, или если ему это предсказывали, с вечера, а то и ночью он вызывал меня к телефону, находившемуся в штабе пехотной роты, и надрывался от крика: "Ты о возможной завтрашней атаке подумал? Не вздумай проспать. Пойдешь под расстрел!"
— Плюнь, — сказал мне однажды мой пехотный коллега. — Пустой человек. Днем спит, ночью баламутит. Особенно под мухой когда… Я от него спасаюсь во взводах.
Тогда и я порешил: ночью — по пулеметным точкам. Днем-то ходить нельзя. Приняв под влиянием раздражения такое решение, я и не сознавал, каким правильным оно было, как много содействовало и сплочению и боеспособности вновь сформированной роты.
Когда в конце декабря мы предприняли штурм противоположного берега, батальон, не достигнув цели, потерял едва ли не четвертую часть своего состава.
Удрученный потерей девяти человек, явился я к вечеру в хату, служившую чем-то вроде временного штаба, батальонного, полкового. Смещенный и опозоренный Г-н, мой недавний начальник, нашел себе место на печке. Увидев меня, он приподнялся, свесил ноги и закричал:
— Твои пулеметы подвели. Тебя расстрелять надо!
И осекся, наткнувшись на взгляд командира полка.
Но об этом в своем месте.
11
Все следующие дни ушли на переориентацию обороны. В каждом доме был свой подвал или курятник. А это как раз то, что требовалось. Оборудовать амбразуру, защищенную от пуль противника — насколько это вообще возможно, не составило труда. Да и солдаты трудились на славу, обретая и, как теперь говорят, "обстраиваясь" на продуманной и согласованной с ними оборонительной линии, защищенной десятью станковыми пулеметами системы "максим" и двумя скорострельными.
Дежурство, невозможное в прежних условиях, сделалось постоянным. Дежурили по два, лежа на меху или одеялах, поневоле экспроприированных из опустевшего Китеж-града.
Два пулемета, так называемые "кинжальные" или, если хотите, "косоприцельные", мы, после тщательного ночного осмотра наиболее уязвимой части нашего берега, установили в землянках, которые рыли всей ротой в глухие ночи и по возможности безо всякого шума. Входы и выходы из землянок были замаскированы. Ни днем, ни ночью стрелять из этих самодельных дотов категорически запрещалось. Командир одного из них — кавалер ордена Красного Знамени (что по тому времени было крайней редкостью), прошел путь от Днепра — знаменитой Соловьевой переправы до Наро-Фоминска.
— Можете на меня положиться, товарищ старший лейтенант. Мой пулемет фрицев не пропустит.
Вторым пулеметом я назначил командовать человека из своей бригады, заведующего школой, учителя математики. Я предложил ему взвод, он предпочел отделение.
— Что ж вы? Я-то взял роту по вашему совету, Петр Николаевич. У вас уже и практика и теория.
— Из всей теории, которые вы нам преподали, — сказал он мне, улыбаясь, — самое стоящее два-три, три-пять…
— Это чтобы ствол не раскалился, голова, — заметил я ему, — запасных на пулемет всего один. А менять приходится уже на четвертой тысяче. Но ведь это для рутинной стрельбы. А если он попрет через реку?
— Зиновий Михайлович, я не пскопской. Вологодский. Слушаюсь, товарищ командир роты!
Самое трудное, как оказалось, готовить солдата к бою. В том числе высвобождая его от лихости и безрассудства. Носить каски никто не хотел. "Да что я, трус, что ли?" Переставить уборные: "Хороши для пробежки, даже интересней жить как-то". Потребовалось два трагических случая.
Среди бела дня, при покойной тишине, является ко мне без вызова командир дальнего пулеметного отделения и просит — с ходу — разрешения "следовать в медсанбат".
— Что с вами?
— Прострелили, когда ходил до ветру. Одна дырка тут, другая на спине. Насквозь! Бачите?
И стоит на ногах. Украинец-великан. Косая сажень в плечах. И даже не очень-то встревожен.
— Сам дойду. Не надо мне провожатого. Ну, если с Володькой…
Странно, конечно, но дошел.
— Под конец опираться стал. Все тяжелые, — доложил, возвратясь, провожатый.
Второй случай довершил ученье. Лежал парень у пулемета, постреливал порой, отвалился, чтобы взглянуть на мир, почувствовал резкий толчок в голову, треск металла и, как он мне объяснял, "легкое ошарашенье".
Пуля влетела в амбразуру, ударилась о каску, прошлась между нею и ушанкой, вырвала клок металла и вышла наружу. С тех пор каски надели все.
Да и со мной случалось. Перебежав из окопа в окоп, остановился, обозревая и беседуя с бойцами. Не заметив, что бруствер наполовину развалился. Кто-то грубо потянул меня книзу и указал на две дырки в снегу. Затем их стало четыре. И как раз там, где только что некстати торчала моя голова.
12
Один пулемет мы решили установить позади КП — ротного командного пункта, оборудованного под купе спального вагона, накрытого тройным слоем толстых бревен и обогреваемого печуркой, сложенной самолично Мамохиным. Верхняя полка была моей, на нижней спал комиссар роты, слава богу, ни во что не вмешивавшийся.