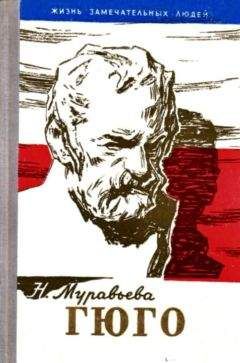Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе (7 сентября. — Р. Ш.). В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов…
…Наполеон разбранил Ростопчина (московский военный губернатор и главнокомандующий. — Р. Ш.) за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его неизвестны императору.
Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.
— Я сделал, что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.
После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы….
— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.
— Я принял бы предложение вашего величества, — заметил ему мой отец, — но мне трудно ручаться.
— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?
— Же мангаж сюр мон оннер, сир. (Ручаюсь своей честью, государь. — Р. Ш.)
— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете ли вы в чем-нибудь нужду?
— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем….
Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме (ныне здание Моссовета — Р. Ш.) и велел нас снабдить съестными припасами; его метрд’отель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в четыре часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил в Кремль…
…Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: „Я полагаюсь на ваше честное слово“. На конверте было написано: „А мон фрер л’имперер Александр“ („Моему брату императору Александру“. — Р. Ш.).
…Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика (Павла Ивановича Голохвастова, раненного французским солдатом-грабителем. — P. Ш.), для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда… Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру».
Ивана Алексеевича тотчас же отправили в фельдъегерской кибитке на холодные берега Невы, в Санкт-Петербург. Семья же его потащилась на Волгу-матушку. Тем же петербургским трактом беженцы добрались до Клина, миновали его и от села Решетникова свернули к уездному городу Корчеве Тверской губернии. Оттуда оставалось им всего несколько верст высоким берегом Волги до поместья Новоселье, принадлежащего старшему из братьев Яковлевых, Петру Алексеевичу. Прожили там немного и переехали в другое яковлевское имение — Глебовское, в соседней, Ярославской губернии. Земли этого яковлевского поместья раскинулись вдоль почтового тракта из Ярославля в Данилов.
Тут, в Глебовском, семью постигла беда: скоропостижно умер от удара, не выдержав дорожных тягот и ранения, Павел Иванович Голохвастов. У 17-летней Сашиной матери Луизы, еще не понимавшей даже по-русски, смерть эта, в отсутствии Ивана Алексеевича, отняла единственную сейчас на чужбине родственную опору. Она осталась одна с грудным сыном и 9-летним пасынком Егором среди крепостных крестьян. Люди эти, озабоченные войной и «нашествием иноплеменников», показались ей сперва сумрачными, недобрыми. Но очень скоро молоденькая мамаша уразумела, как эти хмурые подневольные мужики и их сердобольные жены сочувствуют ее бедам и страхам, как они посильно стараются облегчить ее участь. В глухую пору войны они баловали ее даже изюмом и пряниками, для чего приходилось отряжать тележку в город Ярославль, верст за двадцать.
Тем временем Сашин отец, Иван Алексеевич, сидел в Санкт-Петербурге под арестом в доме самого страшного человека в России и самого близкого лица к государю. По должности он был председателем департамента военных дел Государственного Совета, а Пушкин звал его «всей России притеснитель». От фамилии его произведено жутковатое слово: аракчеевщина, то есть режим насилия и подавления.
Граф Аракчеев вручил государю Александру Первому письмо Наполеона, доставленное Яковлевым. Царь решил, что писать Наполеону не станет: ответ, мол, будет дан ядрами русских пушек, штыками пехоты и казачьими пиками.
Под арестом в доме Аракчеева Иван Алексеевич пробыл месяц. Он оказался первым из прибывших в Петербург очевидцев захвата Москвы. О подробностях расспрашивал его сам Аракчеев да еще адмирал Шишков. Яковлеву запретили встречаться с кем-либо, кроме старшего брата. Скоро ему позволили вернуться к семье в поместье, не поставив в вину, что брал пропуск у неприятеля.
«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей» — так написал Герцен о своем детстве.
Семья Яковлевых скоро вернулась в опустошенную Москву, и Иван Алексеевич снял уцелевший и наспех починенный дом вблизи Страстного монастыря и затейливой церковки Рождества Богородицы в Путинках. (Сейчас на месте Страстного монастыря находится кинотеатр «Россия», а некогда монастырь примыкал к древней стене Белого Города.) В восемнадцатом столетии стену снесли и разбили на ее месте кольцо бульваров. Поэтому перекрестки улиц и Бульварного кольца до сих пор хранят название «ворот» — это память о реально существовавших въездных воротах в городской центр, или Белый Город.
В этом же старинном, просторном доме в Путинках поселился и брат Ивана Алексеевича, сенатор Лев Алексеевич Яковлев, имевший придворное звание камергера. В недавнем прошлом Лев Алексеевич был видным дипломатом.
Москва тех лет превратилась как бы в огромную строительную площадку и возрождалась из руин и пепла с необыкновенной быстротою. Чинились взорванные французами при отступлении кремлевские стены и башни — Никольская, Собакина, Арсенальная и другие. Расширилась и очистилась Красная площадь — там засыпали старый Алевизов ров и убрали ненужные мосты к Спасской, Никольской и Константино-Еленинской башням.