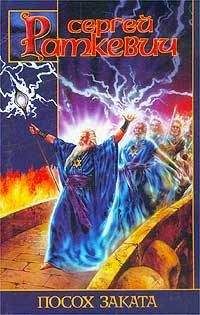Самым любимым художником Варлама Тихоновича был, пожалуй, Ван Гог, а любимым полотном — «Прогулка заключенных». Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то и другое — и «что», и «как».
Варлам Тихонович с резким неприятием относился к толстовской традиции в русской литературе. Он считал, что Толстой увел русскую прозу с пути Пушкина, Гоголя.
В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского.
В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского — Тютчева — Пастернака. В его любви к Пастернаку было что-то умственное, если можно так сказать. Варлам Тихонович часто читал что-нибудь из «Сестры моей жизни» и говорил: «Какой взгляд! Я уж не знаю, как это можно, целые новые пласты втащил он в поэзию».
Это было профессиональным восхищением поэта. Но как-то глубоко душевно он любил Блока. Когда он читал Блока, то никогда не говорил о поэтических находках, а словно ощущал что-то свое, душевное свое в Блоке.
Иногда мне казалось — какие-то воспоминания молодости, эхо какое-то себя еще доколымского. Я об этом не выспрашивала — это столь тонкие ощущения, что их не надо высказывать вслух, переводить в слова. Только видела, как молодело, освещалось его лицо.
…И тотчас же в ответ
что-то грянули струны…
или:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего…
Тютчев все чаще лежал на его столе в 70-е годы.
О как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней…
и:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир…
Были любимые стихи и других поэтов, которые он часто читал: «Черный человек» Есенина, «Роландов Рог» Цветаевой, Ходасевича:
Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю…
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье…
Я любила Гумилева. Это В.Т. раздражало. Вся эта Африка, экзотика — это дурной вкус. Хотя «Заблудившийся трамвай» он читал. Я же любила и «Эзбекие», и «Капитанов», и все «Жемчуга». Конечно, весь «Огненный столп». И часто читала Гумилёва.
Белокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель…
И однажды он переписал в Ленинке весь цикл «К синей звезде» и принес мне. Это был лучший подарок. Эта тетрадь и сейчас у меня. Я и сейчас люблю Гумилева.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под узцы коня…
Гумилев гораздо многомернее и глубже расхожего представления о нем. Никто так это не понимал, как Ахматова, которая в своих записных книжках написала: «Гумилев поэт, еще не прочитанный, и человек, еще не осознанный».
Мы даже «говорили» друг с другом стихами. Мы оба не любили объясняться.
Где-то в первые годы он показал мне Мандельштама:
Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать… —
и отвернулся почти со слезами. Это — его всегдашнее острое сочувствие женской доле. Я, правда, не ощущала ее как страдание и считала нормой и счастьем отдать себя детям, любимым. Тогда — это свойство отдавать, расточать себя казалось мне неисчерпаемым. Потом я убедилась, что физические и, главное, моральные, душевные силы имеют предел.
Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:
Суров ты был, друзей ты не искал
И не искал единоверцев,
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце…
А году в семьдесят пятом он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:
Ты меня не любишь больше,
Истина в пяти словах.
Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках.
Сколько громов и молний отсверкало в «Четвертой Вологде» по поводу пресловутого «паблисити», свойственного отцу Варлама Тихоновича! Какой панегирик тряпкам!
Все так. И все не так.
Очень были забавны и трогательны неожиданные проявления этого «паблисити» в самом Варламе Тихоновиче.
«Мой плащ, — серьезно и внушительно говорит он мне, — самый модный». Слово «модный» он произносит с каким-то щегольским прононсом. После паузы, строго:
— Черный плащ.
Речь шла о черной болонье, тогда, действительно, массовой одежде. Этот разговор возникал не раз, явно В.Т. гордился столь модной вещью.
Однажды я пришла к нему году в 70-м, наверное, а он как-то особенно празднично сияя, меня встречает в… ярко полосатых брюках, было тогда такое увлечение у мальчишек, но даже мои сыновья его избегли. В.Т. наставительно, несколько тщеславно, говорит мне:
— Я покупаю всегда самое модное. Самое модное.
Но видит, что на меня его модная покупка не производит впечатления. Он сразу сникает: «Тебе не нравится?» Я бормочу, что, мол, ничего — мне жаль его огорчать. Но брюки все-таки были забыты.
Однажды с волнением Варлам Тихонович рассказал:
— Прихожу в парикмахерскую, говорю, как меня подстричь. А парикмахер отвечает: смотрите, это будет стоить два рубля. Я не понимаю, по-моему, у меня вполне обеспеченный вид. Вполне обеспеченный.
Я его успокоила: конечно, вполне обеспеченный.
Одевался он всегда так: клетчатая рубашка, чешский или польский грубошерстный пиджак в крупную темную клетку или типа букле. Темные брюки, купленные отдельно. Отечественные ботинки. Летом — голубые рубашки навыпуск с короткими рукавами. Зимой — плащевка на меховой подкладке (это тогда стоило дешево), кроличья ушанка.
Помню, с каким удовольствием он вил гнездо, когда переехал в свою просторную комнату на второй этаж дома № 10 по Хорошевскому шоссе с первого этажа, где жил в крохотной комнатке квартиры Ольги Сергеевны Неклюдовой, своей второй жены. Как обсуждал со мной и покупал скатерть на стол, шторы на окна, мебель — в комиссионке, раскладывал просторнее книги… А когда назначили на слом дом № 10, такими же заботами сопровождалось в 1972 году вселение в очень ему нравившуюся светлую просторную комнату в доме № 6 по Васильевской улице.