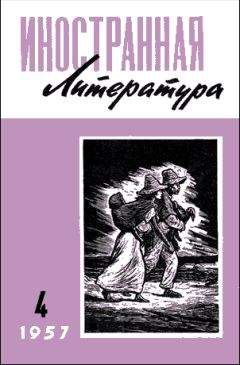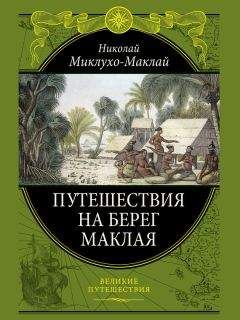— Бонем — мой сын, Илямверия — моя дочка! Оба — мои дети! Только они остались.
Действительно, другие дети Туя умерли, и, кроме этих двоих, у него была только маленькая дочка Каньявака.
— Идем, Тамо-Рус, я тебе покажу! — сказал наконец Туй и, осторожно взяв путешественника за руку, повел через лес к деревне.
Пение не прекращалось, оно то замирало, то вновь возникало и устремлялось к небу, зеленоватому от лунного света. Путники осторожно прошли по тропинке среди зарослей древесных папоротников, лиан и пальмовых стволов. Там стоял запах джунглей, дикого перца и гниющих листьев. Дрожь лихорадки вновь пронзила дядю Колю.
В деревне Туй, не отпуская руки русского путешественника, привел его к большому нарядному дому, стоявшему посреди селения, недалеко от жилища вождя. Это был «дом неженатых», место, где проводили ночи влюбленные, еще не вступившие в брак. Фронтон дома сиял, озаренный лунным светом, а его задняя сторона, как у сфинкса, лежащего на площади, была погружена во мрак тропической ночи. Туй задержал своего товарища в тени и показал ему пальцем на дом. На высоком пороге, под треугольным резным навесом из бревен красного и синего цвета — полная луна делала эти краски особенно выразительными — сидели двое молодых людей. Их неподвижные тела казались изваянными из черного мрамора. Молодой папуас сидел на земле, вытянув перед собой широко разведенные ноги, девушка, присев рядом на корточки, обнимала его. Прислонив головы, они смотрели на небо, не произнося ни слова. Они не двинулись, пока притаившиеся наблюдатели смотрели на них, даже губы их ни разу не пошевелились, ресницы не вздрогнули. Туй наклонился над ухом дяди Коли и прошептал:
— Это Илямверия! Это Митаката!
Скрываясь в тени, Туй и путешественник удалились в сторону хижины вождя. Пение на опушке леса стихло, и сразу же из-за дома, рядом с ними, раздался молодой голос, тянувший отдельные слова на высоких нотах. Это пел Бонем:
Я надел на себя все свои ожерелья.
Раковины и венки из цветов бутии надел я на шею,
Я натер пахучей мятой все свое тело,
Теперь прощай, отец, прощай, маленькая Каньявака,
Сейчас я должен броситься вниз
С пальмы, высокой, как горы, на которых живет райская птица.
Притаившиеся наблюдатели отступили и вернулись к домику на пляже, где храпел равнодушный ко всему Ульсон. Путешественник продремал до утра в гамаке; вернулся ли Туй в деревню или переждал короткую ночь на пляже — неизвестно. Как бы там ни было, едва золотой луч озарил верхушки пальм, возвышавшихся над зарослями, он вновь появился в окне и разбудил спящего.
— Тамо-Рус, — сказал он, — возьми с собой трубку-гром!
Когда они дошли до деревни, было уже светло. Жители Бонгу торопливо собирались на площади перед домом вождя. Маленькая Каньявака жалобно плакала. Увидев своего вождя в обществе белого, толпа заволновалась. Вождь жестом успокоил папуасов. Все мгновенно затихли, так как именно в эту минуту из дома вождя вышла Илямверия, звеня всеми своими украшениями, раковинами и браслетами на предплечьях. Ритмично, как в танце, покачивая бедрами, она шла гордо, но время от времени глядела в сторону, как бы боясь взоров обступивших ее людей. В двух шагах позади нее шел Митаката. Весь с ног до головы натертый ароматичным пальмовым маслом, в лучах утреннего солнца он казался изваянием. Все стихло, замерло, только из-под эвкалипта, росшего перед домом вождя, долетало всхлипывание маленькой Каньяваки.
Илямверия остановилась на минуту и закричала с рыданиями в голосе:
— Отец мой, вождь Туй! Вот дочь твоя, опозоренная, невинная, но опозоренная; вот моя праздничная юбка, вот мои браслеты и венки пахучих цветов, а сейчас я пойду, взберусь на дерево, брошусь вниз и разобьюсь, потому что так велят обычаи предков.
Туй делал знаки дяде Коле, чтобы тот вмешался как deus ex machina[4] и помог в трагической ситуации. Но обстоятельства требовали от русского путешественника слишком многого. Он не мог решить, как защитить трех молодых людей, так как уже появился и Бонем, вышедший из отчего дома с таким же скорбным видом.
Внезапно взоры всех присутствовавших устремились на один из эвкалиптов, росших перед домом Туя на площади деревенских сборищ. Освещенная утренним солнцем, на дереве появилась сияющая, как бы целиком сплетенная из стеклянных волокон, сапфировая райская птица с горы Мороб. Молодой путешественник рванулся как безумный, остановился перед Илямверией, на губах которой замерли жалобы, и начал выкрикивать бессвязные слова языка, которому недавно научился. Он хотел выразить презрение к обычаю, который заставляет трех молодых людей покончить жизнь самоубийством по совершенно ничтожному поводу.
— Не может быть! — восклицал он. — Духи предков не хотят смерти молодых... чтобы умирали молодые... Такой запрет бессмыслен... Все это глупо, глупо... Будьте разумными... Не дайте умереть Илямверии и Бонему, не дайте умереть Илямверии и Митакате!
Толпа зашевелилась и начала повторять одно слово:
— Бома, бома, бома, бома...
Дядя Коля знал, что это слово означает священный запрет.
— Не существует священных запретов, — сказал он, — когда решается вопрос о человеческой жизни. Смотрите на эту птицу, — он указал на массу голубых перьев, развевавшихся на эвкалипте, — убить ее также бома, а я убью ее, и со мной ничего не случится.
Он сорвал с плеча штуцер, прицелился и выстрелил. Несмотря на сильное возбуждение, он попал в цель. Птица упала к ногам Каньяваки, которая громко вскрикнула и замолкла. Крик Каньяваки эхом отозвался в толпе. Напуганные выстрелом, все попадали лицом вниз. Облачко жженого пороха понемногу рассеялось, нагретый утренний воздух, затуманенный выстрелом, снова стал прозрачным и золотистым. Воцарилась глубокая тишина.
В этой тишине радостно зазвучало шлепанье двух пар босых ног. Митаката и Бонем устремились к тому месту, где в естественной гавани в устье реки стояли папуасские пироги. Вначале они ступали неуверенно, но по мере удаления от дома вождя их шаги становились все быстрее и тверже. В тот момент, когда дядя Коля почувствовал, что его икру сжимает ладонь Туя, вместе с остальными лежавшего лицом вниз, он заметил, как оба парня быстро столкнули пирогу вождя в воду и через минуту уже отплыли далеко в море.
Бонема путешественник встретил лишь через одиннадцать лет, когда вновь вернулся на побережье залива Астролябии. Молодой папуас занял место своего отца, умершего вскоре после его побега. Обстоятельства смерти Туя были известны только русскому путешественнику.
Выстрел, убийство синей птицы, побег двух «преступников» и спасение Илямверии, которая вскоре вышла замуж за кого-то другого, на долгое время нарушили спокойствие в деревне и на пляже. Теперь никто не приходил к домику путешественников, не приносил даров в виде дынь, таро и молодых кокосовых орехов. Животный страх Ульсона стал еще сильнее, чем вначале. Он трясся, проклинал свою судьбу и ругал своего товарища за его спиной. Однако через некоторое время папуасы как будто начали забывать о потрясших их событиях и вернулись к своим занятиям и играм на пляже; лишь овощи и фрукты не появлялись, как прежде, у дверей дома белого путешественника.