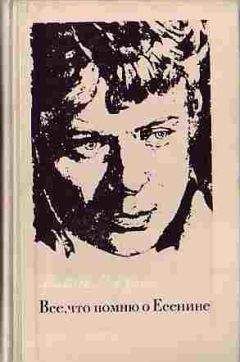На площадке группа студентов подхватила Есенина на руки и стала его качать. Он взлетал вверх, держа на груди обеими руками цилиндр. Но когда его поставили на ноги, другие студенты хотели повторить с ним то же самое.
— Валяйте Мариенгофа! — сказал он.
Едва тот взлетел вверх, также держа цилиндр на груди, Сергей, увидев на рукаве моей студенческой шинели красную повязку, подошел ко мне и тихо сказал:
— Уведите меня отсюда!
Он сложил цилиндр черной лепешкой, взял его под мышку, поднял воротник пальто. Я повел поэта не к тому выходу, где толпились студенты, а в другую сторону, в коридор. Здание я знал хорошо, вывел Есенина к другим дверям с выходом на Большую Никитскую (улица Герцена) и уговорил сторожа выпустить нас.
Неподалеку на улице стоял извозчик, поэт подрядил его за пачку керенок. Пожимая мне руку, он спросил, на каком факультете я учусь и как моя фамилия. Я ответил ему, он поблагодарил меня и сел в сани.
В ту минуту мне и в голову не пришло, что Есенин сыграет роль в моей литературной судьбе…
В 1918 году Московский Совет разрешил литераторам открывать на артельных началах книжные лавки. Это объяснялось тяжелым материальным положением писателей из-за отсутствия бумаги, а также их желанием быть поближе к книге и стремлением принести культурную пользу народу. В лавке писателей работали Б. Грифцов, Б. Зайцев, М. Осоргин, А. Яковлев, В. Ходасевич; в «Содружестве писателей» — Ю. Айхенвальд, В. Лидин, философ Г. Шпет; у деятелей искусств — Ю. Балтрушайтис, П. Коган, Н. Нолле, Я. Рыкачев и др.
В лавке Всероссийского союза поэтов — В. Шершеневич, А. Кусиков; в артели художников слова — С. Есенин, А. Мариенгоф, букинист Д. С. Айзенштадт, бывший директор издательства «Альциона» А. М. Кожебаткин.
Весной 1919 года на Б. Никитской открылась книжная лавка «Дворца искусств», который был организован Наркомпросом и объединял деятелей литературы и искусства с целью улучшения их труда и быта. За прилавком книжной лавки стояли действительные члены «Дворца»: Дир Туманный (Н. Н. Панов), журналист Н. Ф. Барановский-Лаврский и автор этих строк. Неподалеку находилась лавка, где работал Есенин.
Во всех этих лавках было много старинных книг, классиков, иностранных авторов. Некоторые москвичи продавали книги потому, что приходилось покупать продукты по спекулятивным ценам; другие оттого, что их квартиры уплотняли и библиотеку негде было поместить; третьи потому, что собирались уехать за границу и старались сбыть все свое имущество, в том числе книги.
Тяжелым, порой неразрешимым вопросом для лавок были дрова: каждое полено стоило дорого, а доставка на санях или на грузовике еще дороже. Заведующий Дворцом искусств старый поэт и прозаик Иван Рукавишников сказал нам, что «Содружество писателей» обходится без печки, а мы помоложе их, нам сам бог велел следовать их примеру, иначе в первые же месяцы вылетим в трубу. И мы, работники книжной лавки, надевая все, что защищало от мороза, мерзли и спасались только тем, что сменяли друг друга каждые два часа.
В начале апреля 1919 года, в морозный день, когда окна нашей лавки покрылись слоем льда, а покупатели, забегая к нам, чтобы посмотреть книги, а заодно, разумеется, погреться, шарахались обратно на улицу, — в этот памятный день одна за другой две темно-красные двери в тамбуре нашего входа распахнулись, и на порог шагнул Есенин. Он был в серой шубе, в отороченной соболем черной плюшевой шапке.
— Ба! — воскликнул он, увидев меня. — Знакомые все лица! — и заметил, что у меня идет пар изо рта. — Что ж вы, черти, не топите?
— Рукавишников сказал, что и так обойдемся!
— Вы бы его оттаскали за бороду! Я засмеялся, а поэт продолжал:
— Обошел все до одной лавки, ищу мой «Голубень», нигде нет!
— У нас тоже нет, Сергей Александрович!
— До зарезу нужно!
Я объяснил Есенину, что у меня дома есть «Голубень» и я могу ему дать.
— Вот друг! — сказал он, улыбнувшись. — А когда? Я ответил, что с минуты на минуту меня должны сменить, а живу рядом: за углом в доме три по Газетному переулку (улица Огарева).
Он стал ждать, шутливо допытываться, кто в нашей лавке отморозил нос? Потом пообещал при случае осрамить весь проклятый род Рукавишникова (Намек на роман И. Рукавишникова «Проклятый род»).
В это время пришел Н. Ф. Барановский-Лаврский, содрал сосульки со своей черной бородки, снял безоправное пенсне, протер носовым платком и водрузил на нос. Я познакомил его с поэтом.
— Есть расчет мерзнуть в этом погребе? — спросил Есенин.
— Да ведь мы недавно, — ответил Барановский. — Еще не подсчитали…
Есенин и я прошагали по переулку и вошли во двор дома № 3, где я жил с моими родителями. Мы поднялись на шестой этаж, дверь открыла мать, увидела поэта, о котором я ей рассказывал, и растерялась. Но он, поздоровавшись, ласково заговорил с ней…
Войдя в мою комнату, он с удивлением взглянул на окно: оно было из ромбиков толстого матового стекла, с небольшой на пружинах железной створкой вместо форточки. Окно выходило во двор другого домовладельца, а по царским законам чужим светом и воздухом нельзя было пользоваться.
— До чего доехали, — сказал поэт, — солнце поделили!
Я открыл заслонку трубы, положил в железную «пчелку» несколько распиленных чурбаков, зажег березовую кору и сунул ее под них. Огонь рыжим языком лизнул дерево, затрепетал, и с гудом, треском стали гореть полешки.
Есенин подошел к стене, где была прибита маленькая вешалка, снял шубу, шапку, повесил их, а шарф бросил на кушетку. Потом приблизился к зеркалу, которое висело в уголке, и, смотрясь в него, стал расчесывать волосы. Невольно он увидел сбоку большую, в красной полированной раме фотографию выпускников 1914 года и учителей Московского коммерческого училища.
— Кто это наверху в крутке? — спросил он.
— Это наш попечитель гофмейстер двора князь Жедринский.
— Знаю я этих царских сатрапов. Морда лощеная, душонка прыщавая. Насмотрелся я на них, когда в Царском Селе за ранеными ходил. Там и царских дочерей видел.
— Я царя видел.
— Где?
— В девятьсот четырнадцатом на Красной площади.
— Как же это случилось?
Я объяснил, что старшеклассников всех школ стали готовить к параду на Красной площади. В училище нас муштровал полковник, ему помогал поручик и лихой барабанщик. Под барабанный бой мы маршировали по актовому залу, потом появлялся царь, которого изображал полковник, и говорил: «Здорово, молодцы!» Маршируя, мы отвечали: «Здравия желаем, ваше императорское величество!». Полковник выходил из себя, когда кто-нибудь из нас запаздывал с этим приветствием и голоса звучали в разнобой. В этих случаях «царь», ударяя правым кулаком о ладонь левой руки, орал: «Отвечаете, будто бьете молотом по наковальне!». И заставлял без конца повторять то же самое.