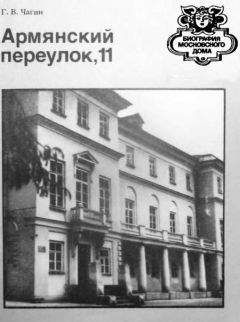Женя Айзенштадт вызвал Мишку Цвибака на дуэль, но дуэль не состоялась. Все общежитие университета пело о них:
От Севильи до Гренады
В теплом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается звон мечей.
Судьбы осузовцев сложились весьма различно. Об ОСУЗе по-разному писали и Дмитрий Мейснер (лентовец) и Лев Успенский (маевец). Я пишу об этом бегло, но надеюсь, что и эти наброски, может быть, пригодятся кому-нибудь, кто будет изучать историю средней школы в первые годы перелома ее из старой казенной в очень «новую либерально-общественную» школу второго десятилетия XX века.
Помимо официальных создавались, конечно, и другие, более близкие компании. За зиму 1917/18 года близкими стали: Аля Лунц (маевец), Аля (Грациэлла) Говард — я не помню, из какой гимназии была эта прелестная девочка с итальянскими мягкими глазами и длинной темной косой, полу итальянка, полуангличанка, Сева Черкесов и Юра Шейнмани (лентовцы) и я. Летом мать Али Лунца пригласила нас всех погостить в Боровичи, где они жили на даче.
Осенью мы все поступили в университет, мы с Алей — на юридический, парни — на биологический. Поступили мы на юридический потому, что, в сущности, он уже не был юридическим — перестраивался в «факультет общественных наук». И мне казалось самым насущным начать с изучения развития общественных форм, социологии, с изучения марксизма. Все это не было еще обязательным, никто не заставлял нас изучать Карла Маркса, и Ленин еще не считался Римским папой новой религии. Нам усиленно говорили, что личность не играет роли в истории, ее выдвигают социальные потребности и законы общественного развития. С.И.Солнцев читал нам курс происхождения классового общества, В.В.Светловский вел семинар по родовому обществу. Я посещала этот семинар. Он хранил еще старые традиции семинарских занятий. Мы сидели за длинным столом в уютной комнате. Вдоль стены тянулись длинные шкафы семинарской библиотеки, блестели упругие, тисненные золотом корешки переплетов, отсвечивали стекла. Топилась большая изразцовая печь, и служитель, бритый старик в потертом вицмундире, вносил огромный медный самовар и расставлял стаканы. Профессор Светловский, кругленький, но подтянутый и изящный, пошучивал, сияя розовой лысиной. Ассистент кафедры приготовлял материалы, нужные для занятий. Медленно умирала старая, налаженная университетская жизнь. Она еще боролась, силясь сохранить старые традиции, весь первый семестр. И были еще рождественские каникулы.
Недавно я прочла воспоминания Маргариты Васильевны Сабашниковой о 1918 годе в Москве. Она описывает голод и произвол, разруху, тиф и отчаяние, царившее среди старшего поколения интеллигенции, не партийной, конечно, а философской (антропософской). Мне кажется, что и в Москве, как в Питере, этому не было места среди вступающей в жизнь зеленой молодежи. Все совершающееся в эти первые годы казалось нам естественной разрухой перестройки.
Зимой 1918/19 года Петроград был тих и пуст. Не было дыма и гари. Небо стало прозрачным. Молчали заводские трубы. Рабочие — слава и гордость питерского пролетариата — ушли на фронты гражданской войны и в продотряды, пытаясь наладить снабжение продуктами и отопление города. Топлива не было. На окраинах разбирали на топливо для печей деревянные заборы. В больших каменных домах с паровым отоплением лопнули трубы. В комнатах ставили железные печки-буржуйки, выпуская в форточки их рукава-трубы. Топили мебелью и книгами. На прямых великолепных петербургских улицах роскошные магазины были закрыты, а окна забиты досками. В магазинах поплоше по карточкам выдавали черный хлеб, ржавые селедки и пшено. Перед магазинами вертелись мальчишки в лохмотьях, чем-то торговали. И пели: «Эх, яблочко? Купил его с мамашею. Накормили всю Расею пшенной кашею». Продавали они все больше спички. Кричали: «А вот! А вот! Спички шведские, головки советские, пять минут вонь, иногда огонь!» Коробок стоил миллион рублей. В очередях передавали страшные слухи: по городу стал бродить голодный тиф. Хлеба не было.
Но были концерты в филармонии и публичные лекции в разных залах. Залы не отапливались. О лекциях объявляли наклеенные на стенах афиши.
В университете лопнуло паровое отопление и главный коридор был покрыт льдом. Веселые первокурсники скользили по этому льду, как на лыжах.
Лыжи были самым удобным сообщением в городе: трамваи не могли пробиться через снежные сугробы, а о других способах сообщения просто забыли. Извозчики вывелись, а машины не завелись еще. Изредка с грохотом пролетали грузовики. По строго правительственным нуждам.
Главное здание университета неуклонно обледеневало. Занятия в нем прекратились. Но в книжном киоске топили буржуйку и книги еще продавались: прелестные книжки стихов, выпускаемые издательствами «Алконост» и «Картонный домик», тиражом от 500 до 1000 экземпляров.
Занятия шли в Физическом институте и в больших угловых комнатах старого студенческого общежития, во дворе университета. Большие угловые комнаты обращены в аудитории, в остальных жили студенты. Топливо мы добывали, организуя ночные набеги на баржи, которые еще встречались по берегам Невы, или на уцелевшие заборы Васильевского острова. Когда набег был удачен, топили не только котельную, но и титан-кипятильник внизу, у входа, и огромную, саженной длины, плиту в кухне. Днем на ней варили в котелках что-либо, а вечером вдоль плиты выстраивались ряды чернильниц и маленьких бутылочек. В бутылочки наливали керосин, вставляли фитиль, а сверху прикрепляли лабораторную колбочку. Это называлось «лампион». Усевшись вдоль плиты на скамьях, можно было прекрасно заниматься. Зачеты было удобно сдавать в очередях в столовую: профессора и студенты там вместе получали конину, которую сумел добыть студенческий комитет. Профессора тогда еще называли студентов «коллегами».
Весной сугробы растаяли. Солнышко светило все ярче, и между булыжниками мостовой полезла зеленая травка. Холод ушел, но продовольствия не прибавилось. На севере страны продолжалась интервенция англичан, на юге — гражданская война. Петроград был тих, пуст и светел.
Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло.
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?
Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый над городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес,
— лебединым голосом читала свои стихи в Вольфиле Анна Андреевна Ахматова. Блок написал «Скифы» и «Двенадцать». Их тоже читали в Вольфиле. Блок был председателем Вольфилы.