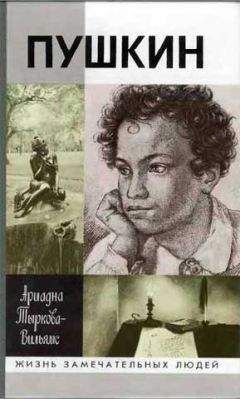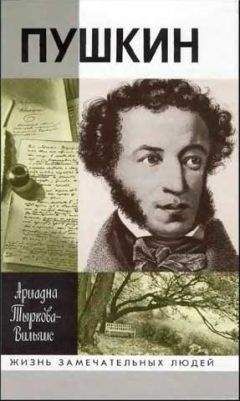Несмотря на напряженную общественную деятельность, светские заботы (Гарольд Вильямc получил в эту пору престижный пост иностранного редактора газеты «Таймс»), писание политических статей для эмигрантских изданий, семейные хлопоты, Тыркова-Вильямс, можно сказать, самозабвенно отдается любимой теме. Аркадий Борман, живший тогда в Берлине, а затем в Париже, по ее письмам следил за этой подвижнической работой прямо-таки в кипении отвлекающих Ариадну Владимировну дел.
18 июня 1925 года:
«Я выпью чай и примусь за Пушкина. Когда молишься за меня, не забывай просить у Бога – «Дай ей кончить Пушкина». У меня спокойная неделя без гостей, только толпа царскосельских лицеистов кругом».
7 июля:
«У меня сегодня битком набитый день».
Это значит, что ей мешали работать над книгой.
4 декабря:
«Я с усилием, корявыми словами и мыслями возвращаюсь к Пушкину. Меня сбил последний налет на Париж».
А. Борман комментирует: «Она ездила в Париж по какому-то срочному общественному делу».
10 декабря:
«Идем завтракать с генералом Пулем. Надеюсь, что это последний завтрак, пока не выпущу Пушкина из Лицея».
(Генерал Пуль одно время командовал английскими войсками на Архангельском фронте.)
10 мая 1926 года Тыркова-Вильямс и ее муж завтракали с итальянским послом.
«Эти выезды, – писала Ариадна Владимировна сыну, – отрывают меня от рабочего расписания. Я их сейчас не люблю <…> Надо притянуть свои мозги к Пушкину, хотя через час опять уходить на заседание Красного Креста, где авось вытяну для русских детей в Варне несколько десятков фунтов».
9 ноября:
«Я наконец вчера, только вчера вернулась к Пушкину. <…> А сегодня Китай занял все мое внимание и время. Но ведь и Китай дело важное. Надо и его переварить».
18 ноября:
«Я в музей хожу с упоением, похожим на запой. Это не надолго. У меня, как у пьяного дьячка, все уже прочитано, только не написано, а написать, до смерти, хочется».
27 января 1927 года:
«Пишу тебе на кипе своих бумажек. Иногда прихожу в отчаяние. Взвалила на себя самые тяжелые тяжести. А справлюсь ли? Одно дело читать, выбирать, даже думать. Совсем другое дело из всего этого построить книгу, ясную и которую захочется прочитать. Ну, делать нечего, побреду дальше».
13 февраля:
«Я отбилась эти дни от Пушкина. Надо опять браться за свои листки. Но богословы внесли в мою жизнь суетливость».
Из Парижа приезжали друзья – русские богословы.
19 апреля 1927 года Тыркова-Вильямс пишет сыну в Париж из Наухейма, где она проходила курс лечения:
«Для меня биография Пушкина и школа, и откровение, и отдых, и неиссякаемый запас русского духа. Я подумала о ней в январе 1918 года, в минуты беспросветной тоски, отчаяния. Много лет с тех пор прошло, мало я еще успела сделать. Но если справлюсь, то верю, что это будет настоящее «белое дело». Источник веры в Россию. Я крепко это воспринимаю, но сумею ли передать? Оттого так ревниво и отгораживаюсь от другой работы».
23 июня:
«Ты спрашиваешь о Пушкине. Я писала. Потом остановилась. Рылась, опять пишу. Сейчас сложила листки, чтобы поговорить с тобой. Все равно не успею до обеда собрать мысли, а главное их сократить. Это о Марии Раевской. Так много об этом пустяков написано. Надо их все забыть и остаться только с Пушкиным и с ней».
13 октября:
«Брожу по Бессарабии, только не с цыганами, а с их певцом. Смутно мечтаю о сроках. Так хотела бы в октябре сдать в переписку, а в ноябре в печать».
5 апреля 1928 года:
«Меня очень радует, что вы с Соней читаете с удовольствием моего Пушкина. Я ведь тоже пишу его с удовольствием и мукой».
16 апреля:
«Мне было очень приятно читать твои похвалы лицейской главе. Я непременно сокращу, но когда все напишу. Над беснующимся Пушкиным я много повозилась. Очень трудно было строить. Надеюсь, что следующие главы пойдут по этому образцу. А то при всем моем упрямстве очень тяжело столько раз переделывать».
4 сентября:
«Стол завален. Мысли тоже. Все в книге. Четвертую часть посылаю в пятницу, надеюсь, что последнюю – в середине будущей недели. Гар[ольд] Вас[ильевич] хвалит. Значит, он и корректор уже на моей стороне. Но так как я в своем лондонском уединении почему-то накопила политических врагов, то жду, что книгу поднимут на дыбу».
5 ноября:
«Посылаю тебе пятую часть. Это конец первого тома <…> Устала. Дочитала себя до конца, и вдруг нашел ошеломляющий страх, да разве так можно кончить. Гар[ольд] Вас[ильевич] уверяет, что должно. Он в общем доволен. А у меня мозги исчерпаны до последнего предела. Ничего дописывать не в состоянии, кроме, конечно, предисловия».
Когда работа над первым томом «Жизни Пушкина» была завершена, Ариадну Владимировну постигло тяжелое горе: после скоротечной болезни 18 ноября 1928 года скончался ее любимый муж. Казалось, от этого удара она не придет в себя. Через тридцать лет Аркадий Борман нашел в ее бумагах запечатанное письмо, адресованное детям и друзьям. Оно содержало просьбу в случае сумасшествия Ариадны Владимировны перевезти ее во Францию.
В духовном выздоровлении помог Пушкин. Уже в начале 1929 года Тыркова-Вильямс заканчивает предисловие к книге, где говорит: «Мне было очень трудно писать о Пушкине. И очень радостно. Ощутить, впитать в себя очарование, излучающееся от гениальной личности, великая радость. И если читатель разделит ее со мной, моя работа не пропадет даром». Тогда же появляется и второй эпиграф: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим» (Пушкин). Какая поучительная мысль – и особенно для русского либерализма! Однако продолжать работу над биографией Пушкина Тыркова-Вильямс не может. Она принимает решение написать книгу о своем покойном муже.
Работа над «Жизнью Пушкина» была прервана на несколько лет.
В эту пору из-под пера Ариадны Владимировны (параллельно с биографией Гарольда Вильямса) выходят политические и литературные статьи, а также страницы мемуаров для рижской газеты «Сегодня», берлинского «Руля», парижского «Возрождения». По-прежнему много сил отдает она общественной и благотворительной деятельности. Только в ноябре 1935 года наконец появляется по-английски книга о ее муже – «Щедрый собеседник». Теперь она готова вернуться к пушкинской теме. В марте следующего года Тыркова-Вильямc сообщает близкому приятелю и замечательному прозаику Ивану Созонтовичу Лукашу: «Ныряю в Пушкина. Знаете ли вы, что через него идет просветление русского лика, затемненного чадом марксистских искушений». Ей идет шестьдесят седьмой год, и она торопится.