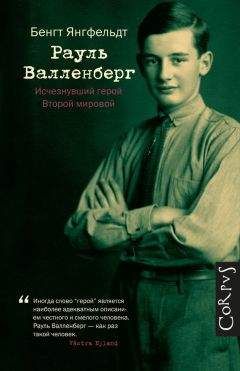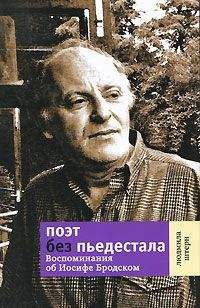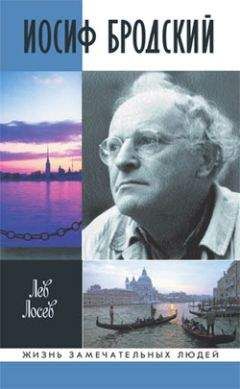Шахматов познакомил Бродского с Александром Уманским, талантливым дилетантом, сочинявшим фортепианные сонаты и изучавшим восточную философию. Уманский собрал, что по тем временам было не просто, большую коллекцию книг по эзотерике, и это через него Бродский получил представление о дзен-буддизме и йоге.
После небольшой отсидки за скандал, учиненный им в женском общежитии Ленинградской консерватории, Шахматов уехал в Самарканд. В конце 1960 года Бродский поехал его навестить. С собой он вез рукопись Уманского. В самаркандской гостинице Бродский узнал в американце, соседе по этажу, героя какого-то виденного им фильма и познакомился с ним. Мелвин Белли был знаменитый американский адвокат (впоследствии он взял на себя защиту Джека Руби, убийцы Ли Харви Освальда), о чем Бродский понятия не имел. Съемки в кино были для Белли случайным эпизодом. Бродский с Шахматовым попросили Белли взять с собой текст Уманского для публикации на Западе, но Белли на это не решился.
В Самарканде, вдали от столичных властей, Бродский с Шахматовым выстроили фантастический план побега за границу на угнанном маленьком самолете внутренней линии, который Шахматову предстояло посадить на американской военной базе в Афганистане. Бродскому следовало оглушить пилота ударом по голове, после чего летчик Шахматов с револьвером в кармане должен был занять его место за штурвалом. Но план не реализовался, потому что Бродский не мог решиться ударить камнем по голове человека, который не сделал ему ничего плохого. Он рассказывал мне, что отказаться его заставило весьма конкретное впечатление: накануне он расколол грецкий орех, увидел две его половинки, похожие на полушария человеческого мозга, и понял, что никогда не сможет ударить человека по голове.
Годом позже Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия. На следствии, добиваясь для себя снисхождения, он рассказал о якобы существовавшей в Ленинграде «подпольной антисоветской группе Уманского», широко называл имена. Назвал в том числе и Бродского. Бродского арестовали, но, продержав два дня в Большом доме, выпустили, поскольку планы бегства не были осуществлены. Однако у него тогда изъяли стихи и дневник. И то и другое использовалось против него в газетной травле и в ходе суда.
11.
Сразу по окончании процесса, в марте 1964 года, Бродского перевели в «Кресты», где он пробыл неделю. На север его этапировали в «Столыпине», как с 1908 года называют в России тюремные вагоны — по имени премьер-министра, при котором заключенных перестали гнать по этапу пешком. Воспоминания у Бродского вагонзак оставил тяжелые: «Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович или Данте, — рассказывал он. — На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем».
Три недели его держали в пересыльной тюрьме в Архангельске, а потом отправили по месту ссылки в деревню Норенскую. До ближайшего городка, железнодорожного узла Коноша, было двадцать километров. Добираться же до места было не просто: дорога грунтовая, автобусного сообщения нет. Район служил местом ссылки еще с царских времен. А в 30-е годы, во время раскулачивания, сюда были сосланы тысячи крестьян со всех концов страны. В селе Ерцеве, в тех же двадцати километрах от Коноши, только, в отличие от Норенской, не к западу, а к югу, в сталинские годы существовал трудовой лагерь. Польский писатель Густав Херлинг-Грудзинский отбывал там срок в 1940—1942 годах. Так что население в том краю привыкло к чужим, и Бродского приняли хорошо.
[Фото 6. Во время ссылки Бродского несколько раз посещали друзья. В октябре 1964 г. Игорь Ефимов и Яков Гордин провели неделю в избе Иосифа. На этом снимке запечатлены Гордин и Бродский. Фото И. Ефимова. Из собрания Я. Гордина.]
В деревне было домов пятьдесят, и только в четырнадцати жили люди, главным образом старики и дети. Край стал пустеть. Однако там были магазин, школа и библиотека, а в одной избе даже телефон. Бродский снимал «зимнюю избу» общей площадью пятнадцать квадратных метров. Изба стояла на краю деревни, словно «последний домик прихода» из стихотворения Рильке «За книгой», которое Бродский любил цитировать в переводе Пастернака. Никаких удобств не было. Приходилось носить воду, рубить дрова, читать и писать при свечах. Деньги на оплату жилья присылали родители и друзья.
[Фото 7. Дом Пестеревых, как он выглядел в 2010 г. Фото Б. Янгфельдта.]
Надо было самому искать себе работу. Бродский устроился в совхоз разнорабочим. Работал бондарем, кровельщиком, возницей, пас телят и трелевал бревна в лесу. Время от времени его навещали отец и друзья, привозившие книги, стеариновые свечи, продукты, писчебумажные принадлежности. Трижды ему разрешили съездить на несколько дней в Ленинград.
«В силу особенностей своего характера я как-то приспособился и решил извлечь из своего вынужденного затворничества максимум возможного, — вспоминал Бродский. — Мне как-то это нравилось». В начале возникли ассоциации с Робертом Фростом, американским «поэтом-фермером», но север дал ему более глубокое понимание жизни: «… встаешь утром в деревне, или где угодно, и идешь на работу, шагаешь через поле и знаешь, что в это же время почти все население страны занято тем же самым. Это внушает тебе бодрящее чувство, что ты со всеми остальными… Это дает тебе некоторое понимание жизненных основ». Тут исток и начало понимания изгнания как «состояния метафизического», которое Бродский много лет спустя разовьет в эссе 1987 года «Состояние, которое мы называем изгнанием» («The Condition We Call Exile»).
Полтора года северной ссылки оказались для Бродского на редкость плодотворными. За девятнадцать месяцев он написал около девяноста стихотворений.
Были строки, которые я вспоминаю как некоторый поэтический прорыв: «Здесь, на холмах, среди пустых небес, / среди дорог, ведущих только в лес, / жизнь отступает от самой себя / и смотрит с изумленьем на формы, / шумящие вокруг…» Возможно, не бог весть что, но для меня это было важно. Не то, чтобы новый способ видения, но, если ты умеешь сказать это, это дает свободу и другим вещам. И тогда ты непобедим.
К началу ссылки Бродский уже отступал от многого. Едва поселившись в Норенской, он писал И. Н. Томашевской, вдове пушкиниста Б. В. Томашевского: «…главное не изменяться, я сообразил это. Я разогнался слишком далеко, и я уже никогда не остановлюсь до самой смерти… Внутри какая-то неслыханная бесконечность и отрешенность, и я разгоняюсь все сильнее и сильнее».
![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)