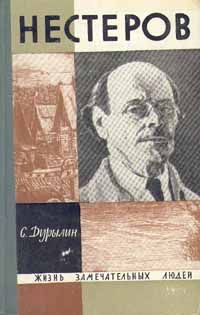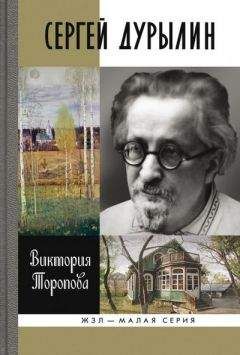Нестеров любил находить отражение красоты народной веры старой Руси в созданиях искусства и любил тех, кто умел это делать: Сурикова, В. Васнецова, Рябушкина, Мусоргского, Достоевского, Лескова, Мельникова. Он восторгался описанием светлой заутрени у Л. Толстого в «Воскресении», а о его легенде «Три старца» говорил, что Толстой здесь на высоте народного искусства и сам делал рисунки к этой легенде.
Но в те же уфимские годы детства Нестерову был близок и творчески призывен совсем другой круг впечатлений, о которых молчали его биографы.
Меньше всего в детские годы Нестеров был тихим ребенком «не от мира сего».
– Шалун, баловник, озорник — вот его самоопределения об эту пору жизни.
И на пасхальной неделе влекла его к себе не только колокольня с красным звоном, но и карусели на народном гулянье, балаганы с их шумом, свистом и посвистом. И в зимнюю пору, когда в Уфе в феврале месяце начиналась ярмарка, мальчика манили к себе эти народные балаганы с их гулливым весельем. «На балконе, несмотря на мороз, — вспоминает Нестеров, — лицедействовали и дед, и девица в трико, и сам Зрилкин, без которого не обходилась ни одна окрестная ярмарка, ни одно деревенское празднество. Тут, конечно, был и знаменитый Петрушка».
Как эти стариннейшие утехи русского народного лицедейства, родственные древним скоморошьим, манили Нестерова-ребенка «русские народные картинки» и русская лубочная книжка! Мать еле могла оторвать его от классических лубочных картинок: «Еруслан Лазаревич», «Как мыши кота хоронили», «Райская птица Сирин», «Платов-атаман», — и столь же трудно было оторвать мальчика от лубочных книжек с картинкою на обложке: «Барон Мюнхгаузен», «Фома-дровосек», «Ведьма, или Страшные ночи за Днепром».
Одно из сильнейших, длительных, благотворных впечатлений детства Нестерова — это его первое посещение театра.
Михаил Васильевич повествует:
«Помню, как-то зимой отец, вернувшись домой, сообщил нам, что вечером мы поедем в театр. Это была для меня, восьми-девятилетнего мальчика, новость совершенно неожиданная. Вот пришел вечер, и нас повезли. Театр настоящий, всамделишный. Мы сидим в ложе. Перед глазами нарисованный занавес. Он поднялся, и я, прикованный к сцене, обомлел от неожиданности. Передо мной был настоящий лес, настоящий еловый лес, валил хлопьями снег снег повсюду как живой. В лесу бедная девушка; все ее несчастные переживания тотчас же отозвались в маленьком, впечатлительном сердечке. Шла «Параша Сибирячка». Что я пережил с этой несчастной Парашей! Как все было трогательно: и горе Параши, и лес, и глубокий снег — все казалось мне более действительным, чем сама действительность, и, быть может, именно здесь впервые зародились во мне некоторые мои художественные пристрастия, откровения. Долго, очень долго бредил я «Парашей Сибирячкой». Не прошла она в моей жизни бесследно».
Не прошла. След ее навсегда остался в живописной повести о душевной красоте и о горестной судьбе русской девушки, в повести, сложенной Нестеровым в его «Христовой невесте», «На горах», в «Великом постриге». В нестеровских девушках с самоотверженным сердцем, умеющим жертвенно любить, но не знавших счастья разделенной любви, есть прямая связь с образом самоотверженной Параши, так поразившим мальчика в мелодраме Николая Полевого.
И недаром во всех дальнейших впечатлениях от театра самыми «ильными, памятными и дорогими для Нестерова были впечатления от артисток, создававших апофеоз женской самоотверженной любви и великого страдания.
Стрепетова, Заньковецкая, Элеонора Дузе были любимыми артистками Нестерова, и все они — русская, украинская, итальянская, столь несравнимые в творческой судьбе их, были, каждая по-своему и каждая в духе своего народа, несравненными воплотительницами женского страдания и подвига.
С Заньковецкой Нестеров написал портрет кистью живописца. Со Стрепетовой он сделал эскиз пером, о Дузе он много писал в своих письмах. О всех трех любил рассказывать.
В октябре 1940 года, когда я вел корректуру книги Михаила Васильевича «Давние дни», я спросил его о первых его впечатлениях от живописи и графики, полученных в Уфе. Он отвечал:
– Видел я у тетки моей, Анны Ивановны Ячменевой, ее рисунок «Маргарита за прялкой». Где-то даже раззолочен он был. Вероятно, это она откуда-нибудь срисовала. Так мне этот рисунок тогда понравился, что я копию сделал. Это было еще до гимназии. Другая моя тетка была замужем за Киприяном Андреевичем Кабановым. Он был из крестьян. Долгое время был управляющим на рыбных промыслах Базилевского в Астрахани. Честный, хороший человек. У него брат был Иван Андреевич, академик.
Иван Андреевич Кабанов был настоящий академик: учился в Академии художеств, получал серебряные медали, в 1852 году получил 2-ю золотую за картину «Проповедь Иоанна Предтечи в пустыне», через год — 1-ю золотую за программу «Ахиллес, учащийся стрелять у кентавра Хирона», был послан на казенный счет за границу, жил в Риме и получил звание академика за картину «Спящая вакханка». Кабанов был земляк Нестерова; он происходил из удельных крестьян Бугурусланского уезда.
– Его итальянские виды, — вспоминал Михаил Васильевич, — висели на почетном месте у тетушки.
Я указал Михаилу Васильевичу, что один из таких видов висел у Павла Михайловича Третьякова в галерее: «Терраса в окрестностях Рима». Нестеров ответил:
– Таланта у него не было, но рисовал хорошо: все как надо, все на месте. Помню, была его картина: мальчик-пастух итальянец лежит с дудкой в руках, облокотись на камень. Шляпа на нем высокая. Я хорошо эту картину запомнил. Мне нравилось.
Был тогда в Уфе художник — Тимашевский. Портреты писал. Деревянные. Его в городе уважали. Художник был тогда в Уфе в диковинку. Он идет по улице, а на него пальцами указывают: «Тимашевский идет! Смотрите, вот он!»
Этот уфимский портретист был тоже не без академического достоинства: Матвей Тимашевский был в 1853 году «удостоен Академией художеств звания неклассного художника за написанный с натуры портрет».
Работы этого «неклассного художника» были первыми, по которым будущий автор «Портрета И.П. Павлова» познакомился с искусством портрета.
Но первый шаг к художеству мальчик Нестеров совершил в Уфе с помощью совсем другого человека.
Это был Василий Петрович Травкин — учитель рисования и чистописания в гимназии, куда Нестеров поступил в 1872 году в приготовительный класс.
– Высокий, бритый, с длинными волосами, в вицмундире. Пил сильно. Он в классе один из всех учителей меня приметил. Внимательно поправлял мои рисунки. Любил меня. Зазывал меня к себе. Жил он на окраине. Снимал комнату у какой-то старухи. Нищета полная. Ничего нет. Один вицмундир на гвозде висит. Все остальное пропивал. Был одинокий человек. Неудачник. Но способный, с искрой. Что-то влекло меня к нему, а его ко мне.