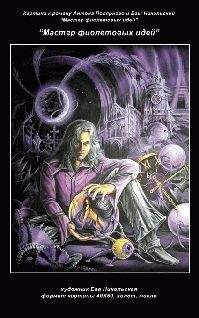Сначала заходила к Егис-ханум.
Егис-ханум была из категории тех женщин, которые боятся даже собственной тени; окна ее дома всегда были занавешены; в разговоре она старалась не упоминать имен, чтобы, не дай бог, не стать объектом пересудов.
У Егис-ханум было двое детей: сын сорока лет и дочь — тридцати пяти. Сына она не женила, чтобы избежать всяческих хлопот, а к дочери никто не посватался. Егис-ханум выводила ее из дому раз в год, шла с ней в церковь, там держала ее где-то в углу, подальше от чужих глаз, разрешая открывать только одни глаза и нос.
Тетушка моя нарочно выдумала, будто Егис-ханум собирается сосватать сыну дочь Гоар-ханум. И плела бог весть что о дочери Гоар-ханум, которую она-де видела в бане.
— На руке два шрама — от болезни какой или от ножа, кто знает… Уж не думаешь ли ты сосватать ее за своего Смбата? — предостерегала тетушка.
— Не время еще моему сыну жениться, — говорила Егис-ханум.
— Сочла своим долгом предупредить тебя, — добавляла тетушка.
И спешила к другой знакомой.
— Дочь Азаран-ханум натирала ноги каким-то лекарством, наверно, болеет чем-то…
Где-то еще о третьей девушке:
— Лицом вышла, но тело… Я и то лучше сложена…
О четвертой:
— Волосата, как мужчина. Смотреть тошно.
И так без конца, без устали.
Как-то из предбанника вошла к нам в отделение какая-то женщина, попросилась у матери помыться с нами, мать, разрешив, куда-то вышла. В это время вдруг явилась тетушка. Увидев женщину, тетушка велела ей немедленно убираться вон.
— Вардер-ханум, — сказала ей Огабер-ханум (так звали незнакомку), — мне Маргарит-ханум разрешила…
И — пошло.
Огабер была не из робкого десятка.
— Вон отсюда!
— И не подумаю!
— Да чья ты собака, чтобы лаять на меня?!
Сбежалась родня Огабер, и представление началось. Огабер и несколько других женщин, сбросив с себя последнее, схватили тяжелые шайки и обступили мою тетушку. Одна из них поскользнулась и, растянувшись на полу, больно ушиблась, но тут же поднялась еще более разъяренная.
Тетушка пустила в ход банный стульчик, и пострадавшая от ее удара потеряла сознание. Но тетушка и сама вскоре лишилась чувств, последним усилием успев запустить стульчиком в Огабер. Подоспевшая мать положила конец драке. Я быстро оделся и бросился искать фаэтон, чтобы отвезти тетушку домой.
5
Старшего слугу, Григора, мы звали просто Гого. Но Гого был не только слугой, а, как говорил мой отец, управляющим нашего дома.
Гого был человек медлительный, широкоплечий, среднего роста, с красными от усталости глазами и больными ногами; феску он повязывал куском ситца, почти закрывавшим ему лоб. Гого покупал мясо и зелень, смотрел за садом, ходил по воду, носил в баню белье, сгребал с крыш снег — словом, делал все необходимое по дому. Он строго различал наших гостей. Тем, кто был ему не по душе, он прямо говорил:
— Твоя физиономия мне что-то не нравится, старайся поменьше попадаться мне на глаза.
Отец не раз говорил Гого: «Не суйся куда не следует». Но Гого стоял на своем, полагая, что у нас в доме до всего ему есть дело.
Бывало, отец пошлет его за Мартиросом-эфенди — поиграть в нарды[8]. Мартирос-эфенди был как раз одним из тех, кого Гого не жаловал. Не смея ослушаться, он тут же отправлялся исполнять поручение. Но шел он вовсе не за Мартиросом-эфенди. Побродит немного по базару и вернется домой:
— Мартироса-эфенди нет дома…
Гого прожил у нас тридцать пять лет, и это давало ему право блюсти интересы пашей семьи наравне со всеми нами. Все наше хозяйство управлялось его совестью и смекалкой. Он проявлял трогательную заботу о каждой нашей щепке, о каждой картофелине и головке лука.
Как-то отец прислал к нам маляров. Гого рассердился, рассудив, что маляров можно было нанять и подешевле. Он решительно выставил их за дверь, не считаясь с тем, что у отца была договоренность с ними, и тут же нанял других.
Весной, когда наша корова начинала мычать так, что не давала никому спать, отец наказывал Гого позаботиться о ней. С удовольствием затягиваясь табачным дымом, Гого спокойно отвечал:
— Хаджи-эфенди, пусть еще немного побесится.
И, выждав несколько дней, он отводил ее в деревню Мореник, чтобы она там «перебесилась»… И действительно, из деревни Гого приводил ее уже притихшей и даже чуточку серьезной.
Приведет корову домой, тут же зайдет в курятник, возьмет свежее яйцо, разобьет его и помажет ей морду. Это была добрая примета.
Никто из нас ничего не смел срывать с деревьев: полновластным хозяином сада был Гого.
Случалось, запускали мальчишки камнями в отяжелевшие от плодов, свесившиеся через ограду ветки. Это служило поводом для дикой драки. Гого выбегал за ограду, хватал за шиворот первого попавшегося и часто сам возвращался жестоко избитым. Мать жалела его и говорила:
— Не горячись так, Гого, пусть себе проказничают…
— Ханум, — зло поводя глазами, отвечал он, — или Гого подохнет под этими деревьями, или они не будут соваться сюда!
Никто из нас так не любил наш дом, как Гого.
Мы повиновались ему. Любому из нас он мог залепить пощечину — имел на это право. Гого терял самообладание еще и в тех случаях, когда находил на выбеленных стенах следы от наших карандашей или ногтей.
Каждую осень Гого с матерью держали совет — что заготовить на зиму. И сколько бы мать ни говорила, что мало припасли масла, риса или других продуктов, — Гого твердил свое:
— Бережливым надо быть, ханум.
И всегда было так, как хотел Гого.
* * *
Гого был женат, но жена его жила в деревне, где имела небольшое хозяйство. Раза два в год приезжала она к нам, но видели ее у нас только мать да малыши: она не показывалась ни отцу, ни старшему брату — стеснялась. Лицо у нее было круглое и красное, как бурак, сама низкорослая, полная, на вопросы всегда отвечала односложно или кивком головы.
А однажды Гого спас мне жизнь, или, по меньшей мере, избавил от тяжелого увечья.
У нас в зале, на потолке, была надпись, сделанная еще при постройке дома: «Сыновья мои Акоп, Геворк, Левон — отныне наследники дома моего». А так как меня еще не было тогда на свете, в надписи мое имя не упоминалось.
И нашло на меня, что раз моего имени там нет, то я не могу быть «отныне наследником». Тайком вытащил я из подвала треножник и взобрался на него, чтобы вписать свое имя в список наследников. Не успел я приняться за дело, как почувствовал, что треножник уходит из-под ног. К счастью, на потолке, возле надписи, был железный крюк, на который зимой вешали большую лампу. Я ухватился за него и удержал треножник, но спуститься вниз не рискнул — треножник упал бы, отпусти я крюк.