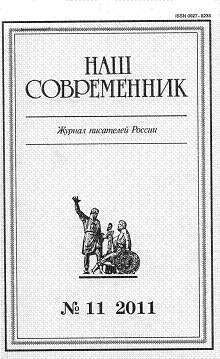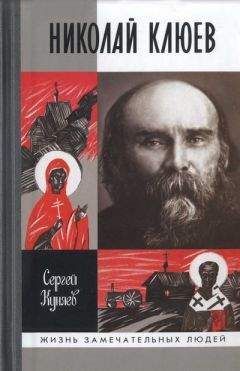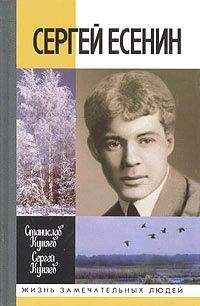«Он ушёл тихо, без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв её рукою, из которой сочилась кровь… Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неограждённой, незащищённой души… Больше не могу, — сказал 27 декабря (а все газеты со ссылкой на неизвестного „врача“ писали, что 28-го! — С. К.) побеждённый жизнью поэт — сказал без вызова и упрёка… Есенин не был революционером. Автор „Пугачёва“ и „Баллады о двадцати шести“ был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушёл от нас и от своей эпохи Сергей Есенин… Нет, поэт не был чужд революции — он был несроден ей… Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, — эпична, — катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой… Спираль истории развернётся до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить будущее. Будем завоёвывать для каждого и каждой право на хлеб и право на песню. Умер поэт. Да здравствует поэзия!..»
Каждому умному должно быть понятно: спираль истории развернётся до конца, а «несродные» с этой «спиралью»… Дальше объяснять не надо. И волей-неволей всплывает в памяти «серый нетопырь», что «смёл начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные кудри»…
…Давным-давно стала одной из любимейших книг Клюева «керженская» эпопея Мельникова-Печерского «В лесах». Ещё до революции вселился в его строки мир гармонии истинного православия на пороге разорения и погорельщины.
По керженской игуменье Манёфе,
По рассказам Мельникова-Печерского
Всплакнулось душеньке, как дрохве
В зоологическом, близ моржа пустозерского.
Потянуло в мир лестовок, часословов заплаканных,
В град из титл, где врата киноварные…
Много дум, недомолвок каляканных
Знают звёзды и травы цитварные.
Керженская игуменья, настоятельница Комаровского скита Матрёна Филипповна, принявшая имя прежней настоятельницы Манёфы, — одна из любимейших клюевских героинь… И сейчас, после гибели своего собрата, Николай снова обратился к мельниковскому миру Заволжья… Зорение церквей, гибель Есенина, старые разгромленные и пожжённые скиты — всё соединяется им воедино.
«— Скитская беда не людская, сударыня… И без вины виноваты останемся, — сказала Манёфа. — Давно на нас пасмурным оком глядят, давно обители наши вконец порешить задумали… Худой славы про скиты много напущено… В какой-нибудь захудалой обители человек без виду попадётся — все про скиты закричат, что беглыми полнёхоньки… Согрешит негде девица, и выйдет дело наружу, ровно в набат про все скиты забьют: „Распутство там, разврат непотребный!.. „…всех погубят, все скиты, все обители!.. Слабы ноне люди пошли, нет поборников, нет подвижников!.. Забыв Бога, златому тельцу поклоняются… Горькие времена, сударыня, горькие!..“
А как предвестие горьких времён — смерть согрешившей Настеньки, дочери тысячника Потапа Максимыча — ей и девятнадцати не было. Убила кручина по Алексею, соблазнившему её и почувствовавшему, „что согнул дерево не по себе… Тёмным мороком пала ему на ум Настя… Вспомнилось, как вдвоём в подклете сиживали, тайные любовные речи говаривали; вспомнилось, как гордая красавица не снесла пыла страсти — отдалась желанному душой и телом… "Что ж?.. Не мы первые, не мы и последние… Кручился-мучился, доспел и бросил…"
Хороша была Настенька у купца Чапурина,
За ресницей рыбица глотала глубь глубокую.
Аль опоена, аль окурена,
Только сгибла краса волоокая.
Налетела на хоромы приукрашены
Птица мерзкая — поганый вран,
Оттого от Пинеги до Кашина
Вьюгой разоткался Настин сарафан.
У матёрой матери Мемёлфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены,
Люди обезлюдены, звери обеззверены…
Это стихотворение, начинающееся строкой "Наша собачка у ворот отлаяла…", отсылающее к есенинской собачонке, что встречала поэта "лаем у ворот", к его же покинутому псу, воющему "о погибшей невесте", было напечатано тогда же — в 1926 году в коллективном сборнике "Собрание стихотворений". И летом того же года Клюев пишет "Плач о Сергее Есенине", где снова появляется погибшая Настенька.
С тобой бы лечь во честной гроб,
Во желты пески, да не с верёвкой на шее!..
Быль иль небыль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?
Только мне, горюну, — горынь-трава…
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые пяльца!
Помнил Николай плачи своей матери, помнил плачи олонецких старух — и те, старые плачи, что Мельников записал для своего повествования.
"Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, как в лесах Заволжья и вообще на Севере, — писал он, предваряя обряд оплакивания Настеньки, — где по недостатку церквей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленицы — эти истолковательницы чужой печали — прямые преемницы тех вещих жён, что "великими плачами" справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, изустно передаваемому из рода в род… Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям… И все на свой порядок, все на свой устав… Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши ещё поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле… "
Клюев, видя, как провожают Есенина, не мог не вспомнить нелюбимого им, но здесь как нельзя кстати пришедшегося Некрасова: "Без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка…" Он мог и не знать, что мать Сергея, Татьяна Фёдоровна, отпела его заочно после того, как её буквально отговорили приводить священника в Московский Дом печати. Мать, в "Письме" к которой Есенин писал: "И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет…" Эти стихи знала вся страна, а то, что осталось в черновиках — появилось в печати гораздо позже и осталось практически неизвестным: "Ты прости, что я в Бога не верую, я молюсь ему по ночам…" Николай совершил над ним свой плач — и начал его со строк: "Помяни, чёртушко, Есенина кутьёй из углей да омылков банных…" Чёртушко поминает погибшего, по мысли Клюева, от своей собственной руки собрата, что перед этим ушёл от старшего "разбойными тропинками", "острупел… весёлой скукой в кабацком буруне топить свои лодки", "обронил… хазарскую гривну — побратимово слово, целовать лишь солнце, ковригу, да цвет голубый…" Все упрёки высказаны — и вступает основной мотив плача — сродни причитаньям воплениц над безвременно ушедшей Настенькой Чапуриной: