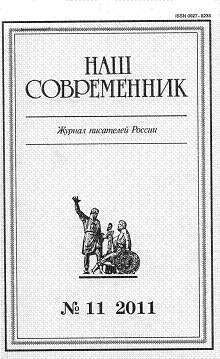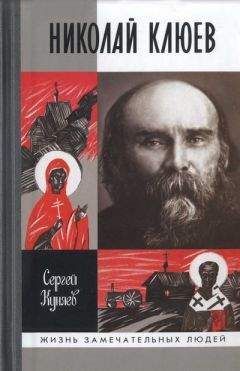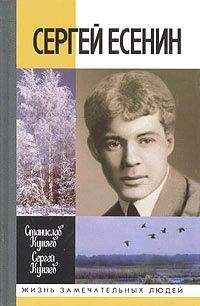Если вспомнить "серых нетопырей", что "мешали спать и жить" поэту из некролога Николая Тихонова, то, выходит, что "детинушка себя сразил", да не сам себе петлю на шею накинул… "Птицы нечистые" ассоциативно отсылают и к Тихонову, и к Лавренёву, но сами они — не из древнего ли "Воронограя", отреченной гадательной книги по птичьему полёту, из тех книг, что не признавала Русская Православная Церковь, а Клюев эту литературу хорошо знал… Мифологические существа, исполненные зла, пирующие на чужой крови — не те ли, кого встретил Клюев в "Англетере", и кто уже начал пробавляться в печати мерзким словечком "есенинщина" — прямым производным от князевской "клюевщины"? Древние мифы и живая, кровавая современность сливаются воедино.
А лебедь белая — символ неба, верховного божества, передатчик человеческой души из мира живых в мир мёртвых — несёт "душу убойную" в хризопрасе-камне не в царство смерти, где, мнится Клюеву, уготованы ей вечные муки, а "под окошечко материнское". Его, клюевская лебедь, спасает душу неприкаянную Серёженьки после его гибели! "Прорастёт хризопрас берёзынькой, кучерявой росной, как Сергеюшко"… Как берёзкой чистой, белой пришёл в город, так и после кончины берёзкой расти будет…
Заклинает Клюев земные и небесные силы, заклинает божества и чертей в аду — дабы не отдавали собрата на мучения посмертные после всего перенесённого в жизни… Матушка его поёт ему, обращённому в берёзыньку, колыбельную, а сам Клюев завершает свой "Плач" неторопливой лирической песней, где слышен голос спасённого "Сергеюшки", где отзываются его зимние мелодии последних стихов — "снежная замять дробится и колется" — и любимый кот выглядывает с лежанки, и дед из старого стихотворения улыбается в бороду… И слышится хрипловатое, немного срывающееся, есенинское: "Приемлю всё, как есть, всё принимаю. Готов идти по выбитым следам…" Всё принимает и его живой ещё старший собрат, сумевший, мнится, совершить невозможное…
Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.
Жизнь — океан многозвонный —
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Всё принимает поэт…
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.
Два небольших отрывка из "Плача о Сергее Есенине" были напечатаны в "Красной газете", а в следующем 1927 году поэма вышла отдельным изданием с предваряющей её большой статьёй Павла Медведева "Пути и перепутья Сергея Есенина", который писал, в частности: "Это — именно плач, подобный плачам Иеремии, Даниила Заточника, Ярославны, князя Василька. В нём личное переплетается с общественным, глубоко интимное с общеисторическим, скорбь с размышлением, нежная любовь к Есенину со спокойной оценкой его жизненного дела, одним словом — лирика с эпосом, создавая сложную симфонию образов, эмоций и ритмов… На "Плаче" лежит печать огромного своеобразия и глубокой самобытности…"
Надо сказать, что в данном случае статья Медведева служила неким "конвоиром" клюевской поэмы. Полной её публикации, конечно, способствовала общественная репутация автора предисловия — комсомольского комиссара 3-го Ленинградского полка войск ГПУ и по совместительству сверхштатного научного сотрудника Пушкинского Дома. Пройдёт ещё год — и Медведев уже своим именем "прикроет" книгу, написанную Михаилом Бахтиным — "Формальный метод в литературоведении". Она выйдет под фамилией Медведева, хотя достаточное количество людей, причастных к литературной науке, будут точно знать — кто подлинный автор.
Но спасти от цензурного вмешательства поэму не удалось. Из текста были исключены три строфы, из которых лишь последнюю удалось дать в виде второго эпиграфа.
Для того ли, золотой мой братец,
Мы забыли старые поверья, —
Что в плену у жаб и каракатиц
Сердце-лебедь растеряет перья,
Что тебе из чёрной конопели
Ночь безглазая совьёт верёвку,
Мне же беломорские метели
Выткут саван — горькую обновку.
Мы своё отбаяли до срока,
Журавли, застигнутые вьюгой,
Нам в отлёт на родине далёкой
Снежный бор звенит своей кольчугой.
А незадолго до издания поэмы Клюев, выступавший практически на всех вечерах, посвящённых памяти Есенина в Ленинграде (он ничего не рассказывал, только читал стихи — и уходил), прочёл её вместе с другими стихотворениями 10 января 1927 года на вечере в Ленинградском Большом драматическом театре.
Замечательное по-своему воспоминание об этом выступлении оставила Ольга Форш, назвав чтение Клюева "неслыханными поминками… по ушедшему самовольно другу".
"На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях — нездоровый налёт садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью.
Выступали певцы и декламаторы, уже обычно и развязно стригли с "Письма матери" купоны, зарождали лютый гнев Маяковского.
Настал черёд и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно — так дьяк в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперёд выдвинул лицо с защуренными на миг глазами. Лицо уже было овеяно песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос.
Он разделил помин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй — измена этого юноши пестуну, старшему брату и себе самому.
Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он своё известное слово о том, как
С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.
Ещё под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко.
Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в "Страшной мести", Катеринину душу за то, что не послушала его слов. Не послушала, и вот —
…На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою чёрной матицей,
Молодой детинушка себя сразил…
Никто не уловил перехода, когда он, сделав ещё один мелкий шажок вперёд, стал говорить уже не свои, а стихи того поэта, ушедшего.