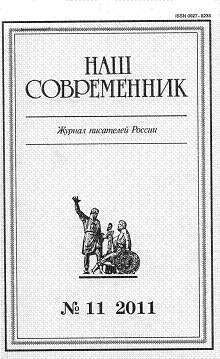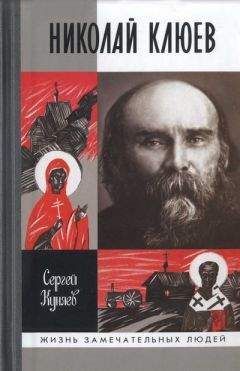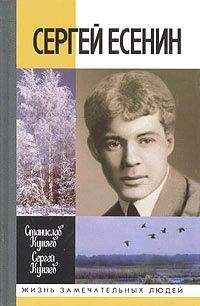Идиллия разрушается с гибелью поэта Руси — Сергея Есенина. Да, не на ту дорогу свернувшего, получившего своё "за грехи, за измену зыбке, запечным богам Медосту и Власу", но великого поэта… И само обрушение русской жизни предстаёт воочию в поэме "Деревня". Как смерть Настеньки — предвестие гибели керженских скитов, так смерть русского поэта — предвестие конца прежней жизни. Насколько идилличен тон в "Заозерье" — настолько он напряжён, рыкающ до срыва — в "Деревне". Кажется, что весь деревенский люд от парней (схожих то с Буслаевым Васькой, то с Евпатием Коловратом) и девок (каждая, что Ефросинья Полоцкая, Ярославна или Евдокия, Дмитрия Донского суженая), до матерей — "трудниц наших", до Бога, писанного "зографом Климом" — весь поднялся на защиту своего бытия от страшной современности, от полного её разброда и нестроения внутреннего. И рефрен воистину угрожающий:
Будет, будет русское дело —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!
Это, мнится, не слишком далеко ушло от пушкинского: "Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!.." Это "ужо тебе!" — сплошь и рядом от бессилия, от невозможности сопротивляться нашествию чумной новизны. Новая эпоха железа наступает — и скрыться от неё некуда.
Ты, Рассея, Рассея-матка,
Чаровая заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого чёрта рога?
Рогатиной иль каноном
Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с саровским звоном —
Утолением плача и ран.
Мы новгородскому Никите
Оголили трухлявый срам, —
Отчего же на белой раките
Не поют щеглы по утрам?
Кажется, принесены все жертвы, какие только можно было принести, а облегчения не наступает. Меняется весь мир вокруг, замолкают птицы, деревья бегут со своих мест, "разодрав ноженьки в кровь", при виде трактора, выехавшего на ниву, железного коня, с которым "от ковриг надломятся полки…" Да не хлебом ведь единым… Жизнь старая гибнет.
И не зря в "Деревне" трактор под стать паровозу из есенинского "Сорокоуста"… И не зря рефрен "Деревни" — "Ты Рассея, Рассея-тёща, насолила ты лихо во щи" — тут же перекликается с "Рас. сеей" Есенина из "Москвы кабацкой"… Ведь вся Русь в богохулье ударилась, и сам Клюев в стороне не стоял — и никакие мотивы не послужат оправданием. Вот и ему, как и младшему собрату, "за грехи, за измену зыбке" — доводится увидеть крушение прежнего мира, где "от полавочных изголовий неслышно сказка ушла"… Одна надежда — вернётся, когда чаша Божьего гнева переполнится.
Только будут, будут стократы
На Дону вишнёвые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядяся в дымы,
На реке бродил по налимы
Да черёмухи в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!
* * *
Не единожды потом задавались читатели и исследователи вопросом: каким чудом "Заозерье" и "Деревня", которую вполне можно было проинтерпретировать как политическую прокламацию, в тех условиях — вообще попали в печать, когда "Заозерье" было опубликовано в сборнике "Костёр", а "Деревня" — в журнале "Звезда"?
Объяснение этому есть. И оно может показаться достаточно неожиданным.
Ещё при Зиновьеве, с помощью Ионова, Клюев начал печататься с осени 1925 года в "Красной газете". Ионов буквально "выжимал" из него "новые песни" — "волчий брёх и вороний грай", как написал Николай. Он взялся-таки за "советскую тематику", но не брехал и не граял. Он нашёл единственный и самый точный ход — "новые песни" пелись от имени нового поколения, той молодёжи, что вошла в жизнь с Октябрём — и иной жизни себе не представляла.
В результате его стихи, насыщенные реалиями новой жизни, обретали куда более полную интонационную завершённость и смысловую убедительность, чем километры виршей на ту же тему множества пролетарских и комсомольских поэтов. Даром поэтического перевоплощения Клюев владел, как мало кто.
Моя родная богатырка —
Сестра в досуге и в борьбе,
Недаром огненная стирка
Прошла булатом по тебе!
Стирал тебя Колчак в Сибири
Братоубийственным штыком,
И голод на поволжской шири
Костлявым гладил утюгом.
Ты мой чумазый осьмилеток,
Пропахший потом боевым.
Тебе венок из лучших веток
Плетут Вайгач и тёплый Крым.
Мне двадцать пять, крут подбородок
И бровь моздокских ямщиков,
Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов.
Эти стихи ещё вязались интонационно и тематически с его прежними выступлениями с прославлением "красных орлов". Но Клюев шёл ещё дальше. Он пел от имени пролетария — классическим пушкинским ямбом и пушкинскими же словами.
Друзья, прибой гудит в бокалах
За трудовые хлеб и соль,
Пускай уйдёт старуха-боль
В своих дырявых покрывалах…
Друзья, прибой гудит в бокалах!
Наш труд — широкоплечий брат
Украсил пир простой гвоздикой,
Чтоб в нашей радости великой,
Как знамя, рдел октябрьский сад…
Наш труд — широкоплечий брат!
И всё это Клюев печатал в "Красной газете" — вместе с "Железом", перепечатанным из "Львиного хлеба". Кажется, ни у одного поэта того времени нет столь взаимоисключающих друг друга публикаций на страницах одной и той же газеты.
После свержения Зиновьева и воцарения в Ленинграде Кирова главным редактором "Красной газеты" и ближайшим соратником нового секретаря стал Пётр Иванович Чагин (с Кировым они были в одной "связке" ещё в Баку). Чагин рассчитывал стать надёжной опорой собиравшегося переехать в Северную Пальмиру на постоянное место жительства Сергея Есенина. И Киров, по его воспоминаниям, собирался взять над Сергеем "шефство", точнее, продолжить его, начавшееся всё в том же Баку… Свершившаяся трагедия была для них настоящим ударом. Не успели…
Чагин знал о Клюеве, как о друге и учителе Есенина. Нет ни малейших основании говорить, что он, убеждённый коммунист, хоть в малейшей степени разделял идеи Клюева. Но судьба распорядилась так, что ближайший есенинский друг, тем паче пишущий и печатающий "новые песни", оказался под его покровительством. И Чагин дал Клюеву своеобразный "карт-бланш" — ленинградские газеты, журналы, сборники в эти два года принимали практически всё, что выходило из-под клюевского пера. Приобрёл такую известность, как полноправный советский поэт, что напечатался даже у Воронского в "Прожекторе". Памятуя о его словах, что ему, редактору, нужны "рыжие", которые ломались бы в его цирке бесплатно, Николай поднёс горькую пилюлю, которую Воронский ничтоже сумняшеся проглотил. В цикле "Новые песни" вторым шло стихотворение, написанное от имени "кузнеца Вавилы" (одно из любимых клюевских мужских имён). Запев — лучше некуда, все "комсомольцы" и "пролетарии" обзавидуюся.