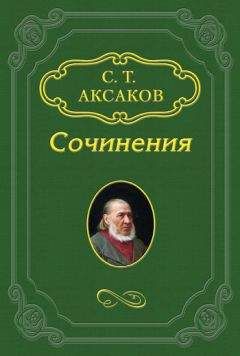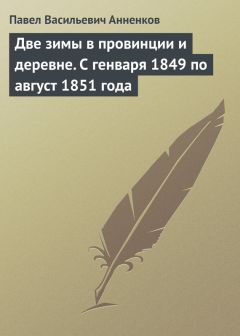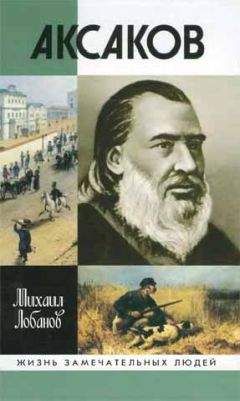в котором слово стрелы произносилось бог знает почему с протяжным, оглушительным треском, или другой стих в роли «Тезея»:
причем Яковлев вскрикивал, как исступленный, ударяя ладонью по рукоятке меча, – приводили зрителей в неистовый восторг, от которого даже останавливался ход пиесы; я бесился и перед этими стихами заранее выбегал в театральный коридор, чтоб пощадить свои уши от безумного крика, топанья и хлопанья. Яковлев до того забывался, что иногда являлся на сцене в нетрезвом виде. Но публика не замечала или не хотела заметить – и хлопала, по обыкновению.
В самую эту эпоху сидели мы один раз с Шушериным, и я что-то читал ему. Вдруг раздался необыкновенно громкий звонок, и через минуту ввалился в гостиную полупьяный Яковлев. Он остановился в дверях и громозвучным голосом сказал:
Здравствуй, брат
Визират!
Как изволишь поживать?
К удивлению моему, Шушерин проворно соскочил с дивана, на котором лежал, бросился навстречу гостю, снял колпак, начал кланяться и шутовским голосом отвечал:
Слава-сте богу,
Живем понемногу.
Откуда взялся этот разговор на виршах, я не знаю. Дело в том, что Шушерин, не любивший Яковлева, как счастливого соперника, захотел потешиться своим гостем и показать мне его во всей невыгодной его славе. Чтобы не беспокоить Надежду Федоровну, которая с моим братом сидела в соседней комнате, он вывел Яковлева в залу, затворил дверь в гостиную, приказал подать самовар, бутылку рому и огромную чашку, которую не грех было назвать маленькой вазой, и мы втроем сели посреди комнаты около круглого стола. Шушерин напоил гостя допьяна и целый вечер безжалостно дурачил. Он называл его великим Яковлевым, заставлял декламировать разные места из его ролей, подстрекая словами: «Ну, Алексей Семеныч, покажи себя, не ударь лицом в грязь; мне хочется, чтобы вот молодой мой приятель (указывая на меня) увидел тебя во всей славе твоего великого таланта». И пьяный Яковлев доходил до неистовства, до отвратительного безобразия. Наконец, Шушерин с притворным участием упросил его рассказать о недавно случившемся с ним несчастном происшествии, которое Яковлев, трезвый, скрывал от всех и которое состояло в следующем: подгулявший Яковлев вышел с какой-то поздней пирушки и, не имея своего экипажа, потребовал, чтоб один из кучеров отвез его домой; кучера не согласились, потому что у каждого был свой барин или свой седок; Яковлев стал их бранить, называть скотами, которые не понимают счастия везти великого Яковлева, и как эти слова их не убедили – принялся с ними драться; кучера рассердились и так отделали его своими кнутьями, что он несколько дней был болен. Сцена отвратительная, но жалкая, а Шушерин валялся со смеху, слушая добродушный и вполне откровенный рассказ Яковлева. Эта черта в Шушерине мне очень не понравилась, и я поспешил уйти домой; вслед за мною Шушерин выпроводил Яковлева без всяких церемоний. В этот же раз, покуда не совсем опьянел, Яковлев рассказал нам, что он знаком с Державиным и ходит к нему читать или декламировать его оды; что Державин, слушая их, приходит в восторг и делает разные жесты и что один раз, когда Яковлев, читая оду «Бог», произнес стих:
Державин схватил с головы колпак и так низко поклонился, что стукнулся лбом об стол, за которым сидел. Яковлев и Шушерин смеялись; но мне вовсе не казалось смешным такое горячее сочувствие знаменитого нашего лирика к своим высоким произведениям.
Мне случилось еще провести один вечер у Шушерина с Яковлевым; но в этот раз он был не один, а вместе с Иваном Афанасьичем Дмитревским, которого я до тех пор не видывал, да и после не видал; итак, это был для меня один из самых интереснейших вечеров во всей петербургской моей жизни. Яковлев с Дмитревским сошлись нечаянно; первый был еще совершенно трезв, и появление старика очень его смутило, потому что он не навещал бывшего своего наставника несколько месяцев. Дмитревский был уже очень слаб, даже дряхл; с трудом передвигал ноги и ходил с помощью человека. Он показался мне среднего роста; но как стан его был сгорблен годами, то, может быть, я и ошибся; лица его я рассмотреть не мог, потому что глаза его не сносили света, и свечки были поставлены сзади; голос тогда был у него уже слабый и дребезжащий; он немного пришепетывал и сюсюкал; голова тряслась беспрестанно: одним словом, это были развалины прежнего Дмитревского. Посещение его, вовсе неожиданное для Шушерина, к которому езжал он чрезвычайно редко, я считал для себя особенною милостью судьбы. Шушерин представил меня Дмитревскому как дилетанта театрального искусства. Старик был со мной очень ласков и учтив как человек, живший всегда в хорошем обществе. Я говорил с ним о казанском театре и об его ученице Феклуше; он очень ее помнил и подтвердил мне все ее рассказы. Во все время нашего разговора смущенный Яковлев молчал; но скоро Дмитревский сам к нему обратился, и я с удовольствием увидел, что Иван Афанасьич, дряхлый телом, был еще бодр и свеж умом. Он принялся так ловко щунять Яковлева за его поведение, за неуважение к искусству, за давнишнее забвение своего прежнего руководителя, проложившего ему путь к успехам на сцене, что Яковлев не знал, куда деваться: кланялся, обнимал старика и только извинялся тем, что множество ролей и частые спектакли отнимают у него все время. Дмитревский улыбался и в нескольких словах показал, что это все вздор, что он знает весь репертуар Яковлева не хуже его самого. В числе оправданий Яковлев упомянул о поездке своей в Москву; он распространился о своих блистательных успехах на московской сцене и в доказательство вынул из кармана и показал нам дорогую золотую табакерку, осыпанную крупными бриллиантами, с самою лестною надписью. Табакерку ценили в пять тысяч рублей. Досадно, что я не помню надписи; но кажется, она состояла в том, что московское дворянство изъявляет свою благодарность знаменитому артисту Яковлеву. Эта табакерка ужасно возгордила его; даже теперь, взглянув на нее, он вдруг ободрился и начал говорить о себе с дерзкою самоуверенностью. Он сказал, между прочим, что никто еще в России не удостоился получить такого блистательного знака благодарности от целого сословия благородного московского дворянства, что суд знатоков в Москве гораздо строже, чем в Петербурге, потому что в Москве народ не занятой, вольный, живет в свое удовольствие и театром занимается серьезно, тогда как здесь все люди занятые службой, которым некогда углубляться в тонкости театрального искусства, все чиновники да гвардейцы; что его игра в роли Отелло[21] всего более понравилась московской публике и что она два раза требовала повторения этой пиесы. При сих словах вдруг обратился он с вопросом к Дмитревскому, сильно раздраженному его хвастовством: «Позвольте узнать, достопочтеннейший Иван Афанасьич, довольны ли вы моею игрою в роли Отелло, если вы только удостоили вашим присутствием представление этой пиесы?» Дмитревский часто употреблял в разговорах слова «душа моя»: но букву ш он произносил не чисто, так что ее заглушал звук буквы с; помолчав и посмотря иронически на вопрошающего, он отвечал: «Видел, дуса моя; но зачем тебе знать, что я думаю о твоей игре? Ведь тебя хвалят и всегда вызывают; благородное российское дворянство тебе подарило табакерку. Чего ж тебе еще? Ты хорос, прекрасен, бесподобен». Яковлев чувствовал, что это насмешка. «Нет, достопочтеннейший Иван Афанасьич, – продолжал Яковлев с жаром и даже с чувством, – мне этого мало. Ваша похвала для меня дороже похвалы всех царей и всех знатоков в мире. Я обращаюсь к вам, как артист к артисту, как славный актер настоящего времени к знаменитому актеру прошедшего времени». Яковлев поднялся с кресел, стал в позицию перед Дмитревским, ударил себя рукою в грудь и голосом Отелло произнес: «Правды требую, правды!» Скрывая негодование, Дмитревский с убийственным хладнокровием отвечал: «Если ты непременно хочесь знать правду, дуса моя, то я скажу тебе, что роль Отеллы ты играесь как сапожник». Эффект был поразителен: Шушерин плавал в восторге, потому что терпеть не мог Яковлева и хотя не любил, но уважал Дмитревского; я весь превратился в напряженное внимание. Яковлев, так великолепно и смело вызвавший строгий приговор, пораженный почти собственным оружием, несколько мгновений стоял неподвижно, потом поклонился Дмитревскому в пояс и смиренно спросил: «Да чем же вы недовольны, Иван Афанасьич?» – «Да всем, – отвечал Дмитревский, давший вдруг волю своей горячности. – Что ты, например, сделал из превосходной сцены, когда призывают Отелло в сенат, по жалобе Брабанцио? где этот благородный, почтительный воин, этот скромный победитель, так искренно, так простодусно говорящий о том, чем понравился он Десдемоне? Кого ты играесь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди что хватит в зубы кого-нибудь из сенаторов…» – и с этими словами Дмитревский с живостью поднялся с кресел, стал посреди комнаты и проговорил наизусть почти до половины монолог Отелло с совершенною простотой, истиной и благородством. Все мы были поражены изумлением, смешанным с каким-то страхом. Перед нами стоял не дряхлый старик, а бодрый, хотя и не молодой Отелло; жеста не было ни одного; почтительный голос его был тверд, произношение чисто и голова не тряслась.[22]