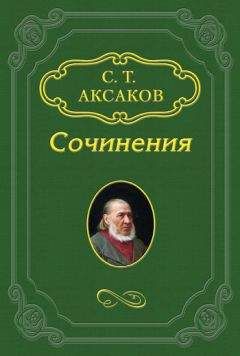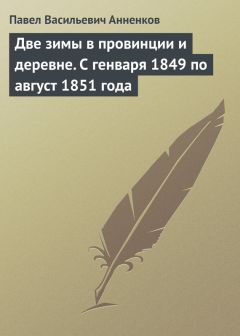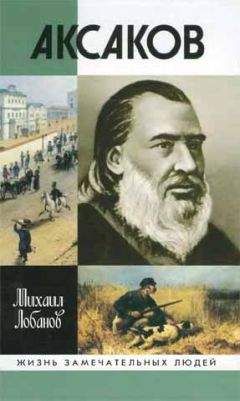Шушерин опомнился первый, бросился к Дмитревскому, схватил его под обе руки, целовал в плечо и, восклицая: «Вот великий актер, вот неподражаемый артист!» – с большим трудом довел его до кресел. Дмитревский так ослабел, что попросил рюмку мадеры. Яковлев стоял как опущенный в воду. Все молчали, точно испуганные сверхъестественным явлением. Оправившись, Дмитревский сказал: «Разгорячил ты меня, старика, дуса моя, и я пролежу оттого недели две в постели». Голос его дребезжал, язык пришепетывал, и голова тряслась по-прежнему. «Пора мне домой, – продолжал он. – Если хочесь, дуса моя Алеса, ведь я прежде всегда так называл тебя, то приезжай ко мне; я пройду с тобой всю роль. Прощай, Яков Емельяныч». Дмитревский едва мог подняться с кресел: Степан вместе со слугой Дмитревского повели его под руки; Шушерин, забыв свою мнимую болезнь и холодную погоду, схватил свечу и в одном фланелевом шлафроке побежал проводить знаменитого гостя и сам усадил его в карету. Когда он воротился, Яковлев стоял в том же положении, задумчивый, смущенный и безмолвный. Шушерин принялся хохотать. «Что, брат? Озадачил тебя старикашка?» – «Да, – отвечал Яковлев, – я услышал истину». С прискорбием должен я сказать, что Шушерин не поддержал в Яковлеве такого доброго расположения. Он принялся шутить, хвалить Яковлева и даже сказал, что всякому слову Дмитревского верить нельзя, а в доказательство его фальшивости рассказал происшествие, случившееся с ним самим. «Когда я приехал из Москвы в Петербург, – так говорил Шушерин, – по вызову здешней дирекции, для поступления в службу на императорский театр, мне были назначены три дебюта: „Сын любви“, „Эмилия Галотти“[23] и „Дидона“, трагедия Княжнина, в которой я с успехом играл роль Ярба. Я обратился к патриарху русских актеров, к Ивану Афанасьичу, который знал меня давно в Москве, всегда очень хвалил и способствовал моему переходу в Петербург. Несмотря на это, я боялся, чтобы его отзывы о моих дебютах не повредили мне, потому что не надеялся на прежние похвалы его, сказанные мне в глаза. Я хотел его наперед задобрить и просил, чтобы он прослушал мои дебютные роли; и хотя он отговаривался, что это не нужно, что ученого учить только портить, но я просил неотступно, и он выслушал меня. По первым двум ролям моих дебютов я получил подозрение, что Иван Афанасьич хитрит: самые лучшие места в моих ролях, которые я обработал и исполнял хорошо, он как будто не примечал, а, напротив, те места, которые были у меня слабы и которыми я сам был недоволен, он очень хвалил. Постой же, старый хрыч, – подумал я, – я тебя выведу на свежую воду. Первые два дебюта сошли очень хорошо. Когда я приехал к Ивану Афанасьичу с ролею Ярба, то прочел ее всю как следует, кроме одного места, которое у меня было лучше всех и в котором московская публика меня всегда отлично принимала: это 1-е явление в 4-м действии, где Ярб бросается на колени и обращается к Юпитеру:
О ты, которого все чтут моим отцом,
Великий Юпитер, держащий страшный гром!
Зри сыну твоему творимые досады!
Впервые для своей молю тебя отрады:
Когда ты мой отец, яви, что я твой сын.
Из мрака грозных туч, и проч.
Видя же, что в природе ничего не делается и Юпитер молчит, Ярб с яростью встает и говорит:
Но что, слова мои напрасно я теряю
И своего отца без пользы умоляю!
Когда ты не разишь, отцом тебя не чту,
И только тщетную в тебе я зрю мечту.
Я прочел эти стихи так слабо, так дрянно, что мне было стыдно смотреть на Ивана Афанасьича. Что же он? Обнял меня и говорит: „Прекрасно, бесподобно, точно так, как я прежде игрывал эту роль“. Я спросил даже, не слабо ли я играю это место, не нужно ли его усилить; но он уверял, что надобно точно так играть. Во время представления пиесы Иван Афанасьич сидел на креслах, между двух первых кулис. Я, разумеется, играл это явление совсем не так, как читал Дмитревскому; публике оно очень понравилось, долго хлопали и кричали „браво“. Когда я сошел со сцены и подошел к Дмитревскому, он обнял меня, превозносил похвалами, а на ухо шепнул мне: „Ты, сельма, бестия, плут, мосенник; ты знаесь за что“. Долго он не мог простить мне этой шутки, и сколько я ни уверял его, что это случилось нечаянно, что это был сценический порыв, которого я в другой раз и повторить не сумею – старик грозил пальцем и начинал меня ругать». Этот рассказ очень поколебал Яковлева в доверенности к Дмитревскому. Потом он сильно подпил и, уходя, сказал: «Поеду к старику, только надуть себя не дам». Я забыл сказать, что в этот же вечер, еще до приезда Дмитревского, Яковлев сказал нам, что написал поэму в стихах. Шушерин лукаво улыбнулся и сказал, что очень бы желал ее послушать, и Яковлев вынул из кармана тетрадку и прочел несколько куплетов. Стихи были, или показались нам, очень хороши, и мы оба, изумленные такой неожиданностью, горячо их хвалили. Яковлев ударил себя кулаком в грудь (это был любимый его жест) и сказал, обращаясь к Шушерину: «Да, брат, это Этна, в которой много кипит огня. Завтра прочту свою поэму Гавриилу Романовичу Державину». Я после видел эту пиесу, напечатанную отдельно. Это была не поэма, а большая лирическая песнь духовно-нравственного содержания, написанная, по-тогдащнему весьма хорошими стихами, и, конечно, обличала новое дарование в этом замечательном и талантливом человеке. Поступок Шушерина меня огорчил. Из всех рассказов об Яковлеве должно было заключить, что в основании характера этого человека много лежало благородного и прекрасного. Оставшись наедине с Яковом Емельянычем, я упрекал его, но он отшучивался и отвечал мне, что «я еще молод и когда поживу с его на свете, то иначе буду смотреть на людей». Только Шушерин с этих пор сделался осторожнее и старался при мне ничего подобного не говорить.
Гнедич переводил тогда «Илиаду». Он позвал Шушерина к себе, чтобы выслушать осьмую песнь, только что им конченную. Шушерин был так любезен, что сейчас вспомнил обо мне и выпросил позволение привесть меня с собою: до тех пор я не был лично знаком с Гнедичем. Он переводил «Илиаду», начав с седьмой песни, потому что считал перевод первых шести песен Кострова[24] вполне удовлетворительным; переводил он ямбами с рифмами и дошел до половины десятой песни. Всем известно, что впоследствии, по совету С. С. Уварова[25], подкрепленному советом А. Н. Оленина, Гнедич уничтожил свой ямбический перевод и начал переводить «Илиаду» с первой песни гекзаметрами. Я помню, что тогда, не понимая дела, я очень сожалел об этой перемене. Мы пошли с Шушериным пешком, и он предупредил меня, что Гнедич будет читать с таким жаром и с такими жестами, что опасно сидеть близко к нему, особенно с кривого глаза, и заранее потешался уродливостию его декламации. Все это в Шушерине мне было досадно. Гнедич принял нас радушно и после нескольких слов о театре и о Семеновой, причем Шушерин не пропустил оказии сказать, вопреки своему убеждению, что она очень успевает под руководством Николая Ивановича, – принялся читать осьмую песнь «Илиады». Предсказания Шушерина сбылись. Гнедич, читая перед актером и перед неизвестным ему молодым человеком, которого он считал также чем-то вроде актера – дал себе полную волю. Тут я увидел, что не имел понятия о чтении Гнедича, хотя и слышал его один раз у А. С. Шишкова, где он читал седьмую песнь «Илиады» при довольно многочисленном собрании почтенных слушателей. Гнедич декламировал неистово, с движениями и жестами, в самом деле очень смешными. Я сидел прямо против него, Шушерин – сбоку, и я видел, как он забавлялся, что мешало мне восхищаться славными стихами Гнедича. Судьба захотела в этот раз вполне оправдать Шушерина: Гнедич в пылу декламации так махнул рукой, что задел за подсвечник, который вместе с свечой пролетел мимо головы Шушерина; он бросился поднять подсвечник; но Гнедич схватил его за руку, удержал на месте и, яростно смотря ему в лицо, дочитал, как Диомид, посадив возницей Нестора на свою колесницу, полетел против Гектора… Я поднял свечку, натурально переломившуюся, и поставил на другой стол. Вскоре пришла и моя очередь. Гнедич вдруг обратился ко мне, перекинулся через столик, за которым сидел, и, произнося стих: