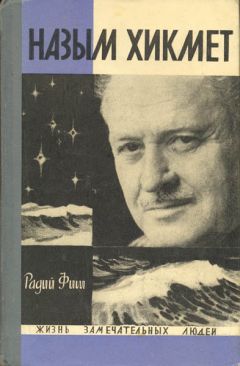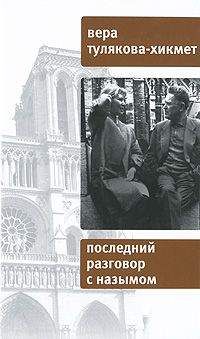1938. 28 мая
…Женушка моя! Наконец дело закончено. Приговор утвержден. Мы осуждены на пятнадцать лет. Не стоит огорчаться. Дело не в осуждении, а в том, что нужно было уничтожить Назыма Хикмета… Но я, несмотря ни на что, хочу жить. Жить прежде всего ради тебя…
…«Самые лучшие мужчины — это женщины», — сказал русский поэт Евтушенко. Кроме двух женщин, Джелиле-ханым и Пирайе, никто в Турции не осмелился протестовать против расправы над национальным поэтом страны. Ни одна газета ни строкой не обмолвилась о том, что происходило в военном трибунале Анкарского училища и в кассационном суде.
После смерти Ататюрка правительство Турции сменило ориентацию. Вначале оно еще вынуждено было маскировать свои симпатии к фашизму. Но через четыре года, когда, казалось, победа фашизма была близка, премьер-министр Турции Шюкрю Сараджоглу заявил германскому послу фон Папену, что он, Сараджоглу, «страстно желает уничтожения России» и что «русская проблема может быть решена… только если будет убита по меньшей мере половина всех русских, живущих в России». Была достигнута тайная договоренность, что Турция вступит в войну на стороне держав фашистской оси, как только падет Сталинград.
Но Сталинград не пал.
Неизбежный разгром фашизма заставил тогдашних правителей Турции срочно искать новых патронов. За несколько недель до конца войны они объявили войну Германии и подписали устав ООН.
По совету США в Турции была ликвидирована однопартийная система. Чтобы направить по безопасному для режима руслу недовольство масс, поднявшихся после разгрома фашизма на борьбу за свободу, была создана Демократическая партия. Точь-в-точь как в Америке — республиканцы и демократы.
США согласились предоставить турецкому правительству военную и экономическую помощь. Началась эпоха «доктрины Трумэна» и «холодной войны».
Сколь ни карманной была оппозиционность Демократической партии, она выступала против ненавистного массам однопартийного правления. И на первых порах в нее устремились многие люди, желавшие коренных изменений в стране. Среди требований оппозиции одним из главных была амнистия всем политическим заключенным.
И вот тогда, в преддверии выборов, назначенных на весну 1950 года, во время которых избиратели впервые в истории Турции получили возможность не только отдавать свои голоса единственному правительственному кандидату, но и выбирать между кандидатами, сколь ни иллюзорным был бы этот выбор, выплыло из одиннадцатилетнего забвения имя Назыма Хикмета. Один за другим «друзья» и «почитатели» поэта, все эти годы хранившие молчание, стали вспоминать о нем если не в печати, то по крайней мере в частных разговорах.
В печати первым назвал имя узника бурсской тюрьмы Ахмед Эмин Ялман. Он не был человеком прогрессивных убеждений, напротив, его газета «Ватан» похвалялась антикоммунизмом и привязанностью к Америке. Посетив поэта в тюрьме, Ялман напечатал статью, смысл которой состоял примерно в следующем: Назым Хикмет действительно великий поэт, осужден несправедливо и должен быть освобожден, потому что за годы заключения исправился: из антипатриота-коммуниста стал турецким националистом, очень болен и очень несчастен.
Это был хитрый ход, рассчитанный по лучшим образцам американской демократии. Зная, что Назым Хикмет не может ответить публично, Ялман пытался ввести в заблуждение его единомышленников, а если все же придется освободить поэта, помочь властям сохранить приличную мину.
«Мы живем в историческую эпоху, породившую массовый героизм, — ответил Ялману поэт. — Люди принимают смерть за свою страну и свои убеждения так же просто, как стакан воды. И поэтому моя болезнь в тюрьме, выплаканные глаза моей матери и тому подобное не имеют большого значения. Я не прошу снисхождения и ни в чем не раскаиваюсь. Как гражданин, я требую прекращения беззакония, направленного против меня лично и против конституции моей страны».
Этого письма Ялман, естественно, не опубликовал.
Назым писал жене:
«Читая статьи, появившиеся обо мне в газетах, я остался совершенно равнодушным. Как всякий честный человек, знаю, что люблю свою страну и свой народ, и если клеветники — на то они и клеветники — изрыгают ложь, мне плевать. Через двадцать, через пятьдесят лет турецкий народ забудет самые их имена, но до тех пор, пока существует турецкая нация, пока звучит па земле мой турецкий язык, я буду жить как человек, писавший самые честные стихи на этом языке и об этом народе».
И все же мысль, что кое-кто может поверить Ялману, — была непереносима. Двенадцать лет сидеть в тюрьме за свои убеждения и снова быть оклеветанным… По словам поэта, то были самые тяжкие дни его заключения.
И тогда на весь мир раздался по Московскому радио голос его старого друга И. Вилена. Они не виделись почти двадцать лет: тюрьмы и эмиграция, подполье и охранка стояли между ними. Но Билен знал одно — Назым ни на секунду не может изменить себе. «Пять минут, которые спасли мне жизнь», — сказал Назым в своих стихах об этом коротком пятиминутном выступлении друга.
«Ватан» — по-турецки значит «родина». И через несколько дней мальчишки-газетчики кричали по всему Стамбулу: «Ялман продает «Ватан» за десять курушей!..»
Удар, однако, не прошел мимо цели. Не от болезней — от огорчений умирают поэты. Надорванное тюрьмой и трудом сердце уложило Назыма на койку.
Общественный резонанс оказался совсем не тот, на который рассчитывал Ялман. После его статей адвокат Мехмед Себюк впервые получил доступ к досье Назыма Хикмета. Это был честный и беспристрастный законник. Ознакомившись с делом, он опубликовал серию статей и доказал:
1. Статья закона, по которой был осужден Назым Хикмет, не имеет отношения к предъявленному ему обвинению. Поскольку в то время уголовным кодексом не каралась пропаганда коммунистических идей, поэт был осужден по 94-й статье военно-уголовного кодекса «за подстрекательство военных к мятежу». Статья гласила: «Подстрекательство более двух военнослужащих к неповиновению непосредственному или высшему воинскому начальнику… карается тюремным заключением от 5 до 15 лет». Между тем единственным пунктом, предъявленным обвинителем в качестве доказательства, был разговор с одним-единственным военнослужащим — Омером Денизом.
2. Обвинение, предъявленное Назыму, бездоказательно. Показание Дениза, от которого он на суде отказался, даже если считать его достоверным, не является доказательством, ибо не подтверждено ни одним свидетелем.
3. Мера наказания установлена с нарушением закона. Высшая мера по данной статье требует указания отягчающих обстоятельств. Таковые суд даже не потрудился придумать.
До сей поры даже друзья поэта полагали, что он осужден все же за какое-то нарушение закона. Неграмотные крестьяне, заключенные в бурсской тюрьме, не могли себе представить, что такой человек, как отец, может быть осужден безвинно. И сколько ни стыдил их Назым, в глубине души верили в неизвестно кем придуманную легенду: Назым Хикмет намеревался, дескать, угнать к русским крейсер «Явуз».
Теперь всей стране стала известна правда, считавшаяся государственной тайной.
Нет ничего тайного, что бы рано или поздно не стало явным. Об этой мудрости стоило бы помнить преступникам, какое бы положение они ни занимали. Но преступники, как все преступники, пытаясь скрыть одно преступление, обычно совершают другое…
Июльской ночью 1938 года в стамбульскую тюрьму явились офицер флота, два унтера и три матроса. Вошли в камеру к поэту, не говоря ни слова, надели ему наручники, вывели из тюрьмы и доставили к Галатскому мосту. Здесь Назыма посадили в моторку и повезли в Мраморное море. Через несколько часов моторка пришвартовалась к борту базы подводных лодок «Эркин», стоявшей на рейде у анатолийского берега возле порта Эрдек…
Назым Хикмет никогда не рассказывал о расправе над ним. Это был гордый человек.
Он был очень прост в общении. С каждым, кем бы тот ни был — мировой знаменитостью или безвестным крестьянином, писателем или шофером такси, — держался по меньшей мере как с равным себе. Высокий, сильный, красивый, непрестанно излучавший чуть ли не физически ощутимую духовную энергию, он, если б понадобилось представить человека перед разумными существами иных миров в самом выгодном свете, в его возможностях, был бы лучшим из послов. Всякий, кому выпало счастье общаться с ним, кто попадал в поле его энергии, уносил от него заряд необыкновенной силы — все задуманное казалось возможным, достижимым — и чувство гордости за принадлежность свою к той же породе существ, что и он, породе, имя которой — Человечество.
И в то же время он был очень турок. Это сквозило и в его галантности с женщинами, и в несколько патриархальной утонченной вежливости с гостем, и в его скромности.