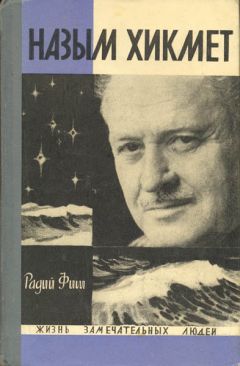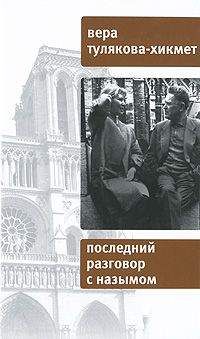11 июля 1939 года
Стамбульский арестный дом
Женушка моя! Впервые в жизни я из-за решетки видел твои слезы. И потому у меня не поворачивается язык сказать тебе: «Будь твердой». В моменты нашей жизни, когда нужна была твердость, это всегда говорила мне ты. Как странно, в этот раз и твои слезы придали мне твердость железа. Я полагаю, что наше горе достигло высшей степени. Ничто, кроме вести о смерти, не может теперь меня потрясти. Высшая степень горя, превратившись в свою противоположность, должна обернуться счастьем. Мы еще будем счастливы, женушка моя! Я чую в себе силы Залоглу Рюстема (богатырь народных легенд. — Р.Ф.), чтоб сделать тебя счастливой, даже сидя за решеткой. Я люблю тебя. И, веруя в любовь, как в самую мощную силу, влюблен в тебя, единственная моя…
Кончался двенадцатый год заключения. В 1949 году правда стала, наконец, известной всей стране. Гигантским трудом, всей силой своего вдохновения превращал Назым Хикмет все эти годы свое горе в людское счастье. Он обессмертил имя Пирайе, свое собственное, его голос зазвучал на весь мир как голос народа Турции.
Но, кроме закона единства противоположностей, есть закон отрицания отрицания. Годы вместе с любовью поглотили и его богатырские силы.
Никогда еще Назым Хикмет не был так близок к смерти.
Глава последняя. Заключенный выходит из тюрьмы
Все ближе разлука,
для всех — непременная.
Прощай же, земля моя!
Здравствуй, вселенная!
Назым Хикмет
В этот раз он не поднимался почти три месяца. И снова мать даровала ему жизнь.
Она приехала в Бурсу в октябре 1949 года. И привезла живительные вести: в Китае победила революция.
Перед его глазами встал тот далекий день в Москве, когда вместе с Эми Сяо и сотнями других китайских товарищей он шел, к Красной площади, держа в руке руку Лели Юрченко… Вот и встретились они снова с Эми Сяо! Какое ликование, наверное, сейчас на улицах Шанхая! Миллионы людей скачут, словно дети, от радости. Счастливец Эми Сяо — дожил… Если он дожил, то и я могу? Что значит могу — должен! Он должен жить назло врагам, назло Ялману и компании. Как знать, быть может, он еще увидит лицо Эми Сяо?..
Шел двенадцатый год моего заключения,
третий месяц, как я был живым мертвецом.
Я — мертвый лежал на полу без движения,
я — живой глядел на него с отвращением,
наблюдая за мертвым, неподвижным лицом,
Ничего другого я сделать не мог…
А мертвец истязал сам себя
и был одинок, как все мертвецы.
Звякнул замок: старая женщина
вошла и встала в дверях. Моя мать…
Мать и сын подняли труп,
я за ноги взял, за плечи она,
раскачали и бросили в реку Янцзы.
А с севера китайской земли
сверкающие армии текли…
Они встретятся с Эми Сяо в 1951 году на Конгрессе мира в Вене. И все будет так, как виделось ему в тюрьме. Эми Сяо даже не постареет, словно десятилетия пронеслись, не задев его. И взгляд его, полный мудрой печали в моменты счастья, и его чуткая собранность — все останется прежним.
В 1952 году Назым приедет в Китай. Вместе с Эми Сяо будет узнавать в Пекине свою молодость. Будет присутствовать на праздновании третьей годовщины революции, стоя на трибуне площади Тяньаньмынь.
Через Тяньаньмынь в Пекине
люди, сияя, текли.
Стал плодородным бы с этой рекою
каждый клочок земли.
…Пройдет еще пятнадцать лет. И они снова окажутся вместе с Эми Сяо. В ходе борьбы за власть, издевательски названной культурной революцией, маоисты вместе с сокровищами китайской и мировой культуры, вместе с книгами Горького, Шекспира, Толстого, Роллана уничтожат и книги Эми Сяо и стихи Назыма Хикмета о китайской революции, о единстве человечества, о бессмертии Джиоконды. Словно «проклятый колокольчик, подвешенный к шее сердца», ненависть к подлинному искусству всегда выдает тех, кто нуждается для достижения своих целей в обесчеловечивании человека.
Ночь.
Блеск луны.
Томится Джиоконда
в наручниках.
Удвоен караул.
Ее ведут, построившись повзводно.
звели курки.
Сухой огонь сверкнул,
Сейчас огонь над облаком взовьется,
багряными лохмотьями струясь.
А Джиоконда все-таки смеется.
Она горит смеясь…
Второй радостной вестью, с которой поспешила к сыну Джелиле-ханым, было сообщение, что его поэма «Зоя» увидела свет, напечатана во Франции.
Об этой русской девушке, которая была схвачена немцами в деревне Петрищево в ту самую зиму, когда, осмеянные всей тюрьмой, они вместе с Рашидом в отчаянии следили по самодельной карте, как гитлеровцы приближаются к Москве, — об этой девушке он узнал, когда бои шли уже под Берлином.
В феврале 1945 года к нему приехала мать. Как всегда, подвела его ближе к свету: «Не вижу, хочу тебя получше разглядеть». Что-то вспомнив, стала рыться в сумке и протянула вырезку из французской газеты: «Ты должен знать об этом!» И пока он читал заметку и разглядывал фотографию девушки с веревкой на тонкой белой шее, мать не спускала с него глаз: «Каково должно быть ее матери!» Той же ночью он начал писать.
Зоей звали ее,
но им назвалась она Таней.
Таня,
в бурсской тюрьме предо мной твой портрет.
Может, ты никогда не слыхала имени Бурсы —
это мягкий, зеленый край…
Я товарищей подозвал,
смотрят на твой портрет:
— Таня, у меня дочь твоих лет!..
— Таня, у меня сестра твоих лет!
— Таня, в твоих годах моя милая!
— Таня, ты умерла…
Сколько убито честных людей,
сколько еще убивают.
А я — мне стыдно об этом сказать, —
я семь лет не рискую жизнью в борьбе,
и хотя я в тюрьме, но живу…
Джелиле-ханым выучила поэму наизусть. И, вернувшись в Стамбул, продиктовала друзьям — писать она уже не могла…
«Что должна чувствовать ее мать?..» Когда Назым в стамбульской больнице Джеррахпаша с каждым днем будет снова приближаться к смерти, его мать выйдет на Галатский мост, с которого ее сын так любил глядеть на рыбацкие лодки, грузовые шлюпы, пассажирские пароходы и катера, снующие по Золотому Рогу и Босфору, слушать шум толпы, перезвон трамваев. На этом самом мосту зазвучит ее звонкий молодой голос, полный отчаяния и надежды, и, перекрывая шум, заставит остановиться прохожих, оторваться от лесок удильщиков, стеной стоящих вдоль перил. Протягивая людям листовки, требующие освобождения поэта, Джелиле-ханым будет взывать:
— Не забывайте Назыма Хикмета! Спасите моего сына!
И в эти дни прозвучит в эфире голос матери Зои Космодемьянской. Она будет говорить о любви, которая делает человека человеком, о поэте, сидящем двенадцать лет в тюрьме за то, что он любит свою страну, как любили свою страну ее дети. Со словами надежды обратится она к Джелиле-ханым: «Ваш сын, — скажет мать Зои, — будет жить».
Не столь уж часто желаемое становится действительностью. Даже если того страстно желают тысячи людей. Но слова русской женщины сбудутся.
29 июня 1951 года в пылающем летнем небе Москвы покажется маленькая точка — самолет из Бухареста. Когда он приземлится и на трап выйдет человек, за освобождение которого боролся весь мир, со всех сторон потекут к нему цветы. Их уже не удержать в руках, они будут падать к его ногам, а он, не в силах вымолвить ни слова, будет стоять, окруженный счастливыми, смеющимися лицами, и слезы навернутся на его глаза… Пусть среди этих лиц не будет ни одного знакомого: почти всех его прежних московских друзей унесла война, время и жизнь, которые текли за стенами его тюрьмы, — об этих людях он думал, был вместе с ними, когда слушал в тюрьме по радио симфонию Шостаковича.
Он еще много раз будет прилетать на Внуковский аэродром из разных стран, но этот день не изгладится в его памяти. У самолета к нему подойдет седая высокая женщина и скажет: «Большое вам спасибо за прекрасные стихи! Спасибо, что не забыли Зою, мою дочь!»
И он снова услышит голос Джелиле-ханым: «Назым, ты должен знать об этом!» И тогда он склонится над морщинистой, будто старый пергамент, рукой русской женщины. И, поцеловав, приложит эту руку ко лбу, как, по обычаю его народа, в знак почтения и любви прикладывал к своему лбу руку Джелиле-ханым, материнскую руку…
Он делал только то, что должен был делать, и ничего не ожидал взамен. Быть может, потому смущался, читая любовь на обращенных к нему лицах.
А его любили тысячи людей во всех концах Земли. Не полководца, не вождя, не наставника, не героя, не борца за мир, не министра и не поэта даже. Его, Назыма Хикмета, таким, каков он был. В нем обретала плоть древняя, как людской род, надежда на братство, предчувствие грядущего единства человечества…
Он был счастлив в тот день на Внуковском аэродроме Москвы. Но в счастье этом была и немалая доля удачи — он дожил. А сколько людей погибло, замучено, не дожило?!
К нему подносят микрофон. Он должен говорить. Но как все это высказать? «Лишь тысячную долю своей тоски мы можем уместить в рисунке». И в слове…