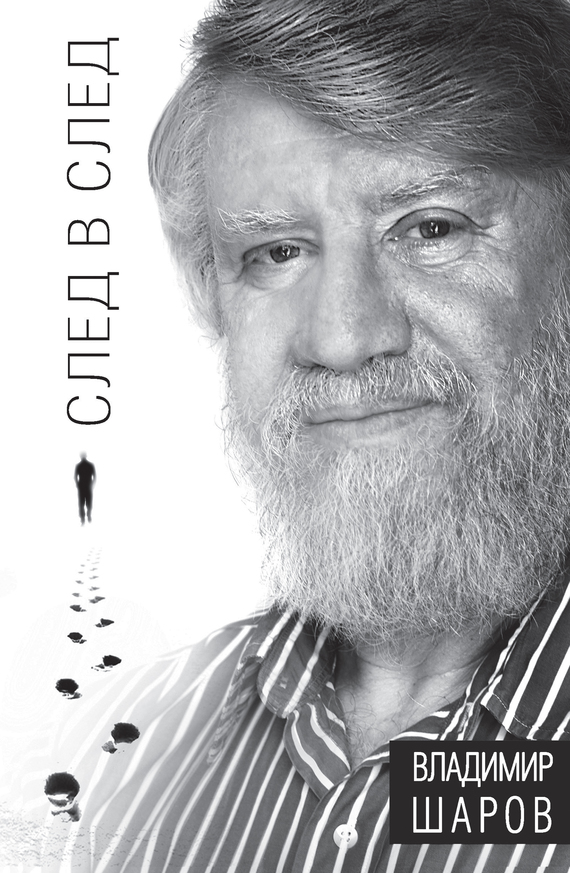мира, через них он связан с теми, с кем связаны они; так эта сеть тянется и тянется, будет тянуться и переплетаться, пока не захватит, не найдет и не соединит его с отцом и братьями. Понимая это, он начинает работу. Теперь он сам – паук, плетущий паутину.
Через год после переезда в Москву он вдруг видит, что под его началом уже стоит партия нового типа, партия более совершенная, чем китайские тайные общества, секта ассасинов, организация бланкистов, сицилийская мафия и «Народная воля».
Тех, кого он знал лично, он назначает командирами ячеек из людей, которых знали они, и уже как рядовые члены партии они входят в другие ячейки – ими командуют знавшие их. Преимущества его партии над всеми другими были очевидны. Во-первых, строжайшая система соподчинения, жесткая централизация и мобильность, так как все нити сходятся к нему, во-вторых, в силу того, что ни один из членов партии ничего про эту партию даже не слышал, – полная невозможность провокаторов, сексотов и, следовательно, провалов.
К шестьдесят шестому году Федор Николаевич и его партия уже легко могут держать в руках всю страну. Но он медлит, колеблется и не решается пустить ее в ход. Наоборот, за четыре месяца до своей кончины – возможно, он ее предчувствовал – Федор Николаевич начинает жечь партийные документы.
В гостиной у нас есть камин, старинный и очень красивый, кажется, французской работы. В январе семьдесят шестого года его впервые на моей памяти разожгли – я даже не знал, что им можно пользоваться, – и три дня подряд Федор Николаевич носил и сжигал в нем толстые папки с записями и документами.
Эти дни, не отходя от камина ни на шаг, рядом с Федором Николаевичем просидела и моя дочь Оля. У нее порок сердца, она часто зябнет и поэтому больше всего на свете любит огонь и тепло. На огонь она может смотреть часами. Сядет поближе и греется, а отсветы пламени перебегают по лицу, глазам, волосам, меняя ее до неузнаваемости. Жена давно в шутку зовет Олю огнепоклонницей, и, кажется, она недалека от истины.
В те три январских дня Федор Николаевич сжег весь архив партии, главное же – списки ее членов и их личные дела. Потом, в феврале и марте, камин топили еще несколько раз, но уже недолго, надо было предать огню случайные остатки и наброски. Федор Николаевич был человеком очень аккуратным, и до последнего времени я не сомневался, что единственные следы, которые остались от его партии, – это два коротких и очень уклончивых разговора, из которых я едва сумел составить о ней общее представление. Но год назад, разбирая последнюю папку с бумагами Федора Николаевича – в ней лежали его стихи и дневники, – я обнаружил среди них черновики трех личных дел членов партии. Возможно, как раз тех, с которых она начиналась. Вот они.
Дело № 1. Соколов Пантелеймон Иванович. Видел его один раз 16 июня 1955 года. На вид лет пятьдесят. Маленького роста, кожа желтая и сухая. Умен. Круг людей, с которыми знаком, чрезвычайно широк и разнообразен, однако отношения с ними непостоянные, отрывистые.
С 1952 года нас буквально заедали неведомо откуда появившиеся клопы. В доме перебывало несчетное число клопоморов, иногда яды были так сильны, что мы сами вынуждены были бежать из квартиры, но клопы серьезного урона ни разу не понесли. Единственное, чего мы добились, – это вывели породу, которую уже не брало ничего. Пантелеймона Ивановича нам рекомендовал знакомый моей матери, сказавший, что тот сумел справиться со столь же стойкой породой клопов на даче тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Екатерины Фурцевой.
Соколов пришел к нам рано утром, долго ходил из комнаты в комнату. По нескольким его замечаниям мы поняли, что он хорошо знает, уважает и, пожалуй, любит клопов и знание это ему дано именно любовью к ним. Было видно, что Соколов человек долга, что он привык делать свою работу на совесть, но глаза его были грустны. Он сознавал, как тесно связан с клопами. Понимал, что зависит от них так же, как они от него. И тосковал из-за несправедливости этого мира, из-за того, что вынужден во зло использовать свою любовь – нести смерть тем, кого любил.
Во время обхода квартиры и отец, и мать, и я, сопровождая Пантелеймона Ивановича, наперебой показывали ему гнезда клопов, их дороги, но он только качал головой и говорил: «Нет, здесь он не пойдет».
Закончив рекогносцировку, Соколов достал из авоськи красивый граненый флакон с пульверизатором, попрыскал в семи или восьми местах и сказал:
«Завтра их останется десять, послезавтра пять, а на третий день ни одного».
Потом взял деньги, попрощался и ушел. Больше в нашей квартире клопов никогда не было.
Дело № 2. Гурин Сергей Алексеевич. Поэт. Чернявый, невысокий. Не умен. Родился между двадцатым и двадцать третьим годами, воевал. На фронте был контужен и дважды ранен. Принадлежит к группе громких молодых поэтов, господствовавшей у нас два послевоенных десятилетия. Женат, живет в соседней квартире. Круг людей, с которыми встречается, очень широк. Пьет, но умеренно.
Гурин не один раз и на машине, и так объездил всю страну. У нас во дворе стояла его «Победа»; машина была на ходу, несмотря на согнутый передний мост, из-за которого она, переваливаясь с боку на бок, всегда ехала только на трех колесах, не было у нее и одной задней дверцы. По бортам «Победы» красной краской были сделаны надписи: с одной стороны – «Москва – Владивосток – Москва», с другой – «Мо… – Каракумы – Москва».
Гурин часто одалживал у нас деньги, но всегда отдавал точно в срок. Добывал он их, очевидно, в самый последний момент и, извещая об этом, громко, уверенно звонил к нам в дверь то в три, то в четыре часа ночи. В конце концов мать убедила Гурина, что возврат утром следующего дня не является нарушением слова – с тех пор мы спали спокойно.
Когда мне было двенадцать лет, Гурин женился на высокой дебелой женщине с коричневыми коровьими глазами. Звали ее Таня. Я был влюблен в нее, и она это знала. Когда мы оказывались вместе в лифте, она животом и грудями прижимала меня к стене и, дождавшись, когда плоть поднимется, хохоча, отступала. Несколько раз, когда родители были на даче, я хотел отвести ее к себе, но Таня дружила со всеми лифтершами, в тот же день об этом знал бы весь подъезд – в общем, я побоялся.
Таня изменяла Гурину, он ее бил, запирал, но она убегала, потом, через неделю или две, возвращалась. Как-то, когда мне уже было пятнадцать – перед этим месяц наши пути не пересекались, – я вечером у ворот дома столкнулся