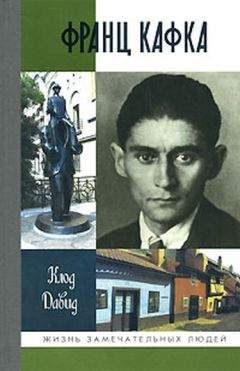Эти размышления, как он пишет в середине сентября в письме Максу Броду, являются лишь знанием первого уровня. Он цепляется за туберкулез, как ребенок за материнскую юбку. Пришел туберкулез — и его судьба отныне остановилась. И снова Максу Броду: «Это первая ступенька лестницы, на вершине которой в качестве вознаграждения и смысла моего человеческого существования (в этом случае, по правде говоря, почти наполеоновского) мирно покоится супружеское ложе. Оно никогда не будет постелено, и, что касается меня — так было решено, — я никогда не покину Корсику». Кафка сравнивает себя с Наполеоном, личность которого его всегда очаровывала, потому что не было человека более непохожего на него. Судьба Наполеона привела его к Империи; судьба Кафки обрекает его на безбрачие. Но что делать? Как сопротивляться велению судьбы? В то же время туберкулез выносит приговор без обжалования и отпущения грехов. Кафка находит в болезни оправдание и убежище. Несколько дней спустя Макс Брод ответит Кафке, что тот счастлив в своем несчастье, и Кафка согласится. Ему не надо больше бороться, достаточно просто подчиниться. Нынешние врачи допускают, что причиной заболевания туберкулезом может иногда явиться «психосоматический» момент. Кафка, со своим обостренным даром предвидения, предчувствовал это.
Он пишет Фелице: что теперь остается делать, как не «безутешно и изумленно созерцать победителя; тот же, почувствовав, что обрел любовь человечества — или одной из предназначенных ему представительниц человечества, — начинает обнажать свою отвратительную сущность. Это полная деформация моих стремлений, деформация как таковая».
Как бы то ни было, Кафка с самого начала знает, что поразившая его болезнь неизлечима. Он пишет в конце того же письма Фелице: «…открою тебе секрет, в который пока еще и сам не верю /…/, но который тем не менее является правдой: я никогда не выздоровею. Именно потому, что это не обычный туберкулез, который можно перележать в шезлонге и дождаться выздоровления, но оружие — и оно будет необходимым всегда, покуда я жив. Эти двое не могут остаться в живых!»
По требованию Макса Брода Кафка консультируется у многих врачей: диагноз не вызывает сомнения, болезнь поразила оба легких. Что делать? Он думает вначале о различных санаториях, потом решает поехать к своей сестре Оттле в Цюрау, на северо-западе Богемии. Оттла, у которой всегда были плохие отношения с отцом, с апреля 1917 гола больше не работала в семейном магазине. Последние два гола она поддерживала отношения с Йозефом Давилом, чехом нееврейского происхождения, за которого позже вышла замуж. Отношения внутри семьи из-за этого еще больше обострились, ее же привлекали жизнь в деревне и работа в поле. Поэтому она уехала в Цюрау управлять имением, принадлежавшим ее зятю Карлу Германну. Франц приезжал к ней однажды в июне, перед началом болезни, и хорошо знал, какое спокойное место его здесь ожидало, когда Агентство предоставило ему трехмесячный отпуск, за которым последуют многие другие.
Легочное кровотечение случилось 9 августа. Месяц спустя, 9 сентября, за три дня до отъезда в Цюрау, он информирует Фелицу о случившемся. Она тотчас же высказывает желание приехать к нему. Пригласительная телеграмма, подписанная Францем и Оттлой, не может быть вручена в положенное время из-за того, что почта закрыта. Письмо о расторжении помолвки, черновик которого не сохранился, было составлено 19 сентября, но явно не было отправлено, так как Фелица приезжает в Цюрау на следующий день. Легко предположить, что эта встреча не могла что-либо изменить. «Ты была несчастна из-за неудавшегося путешествия (Фелица находилась в пути более тридцати часов), — пишет Кафка в последнем адресованном ей письме, — из-за моего непонятного поведения, из-за всего. Я несчастным не был. Назвать мое состояние «счастьем» было бы, конечно, весьма неверно. Я был замучен, но не несчастлив; я чувствовал мою беду гораздо меньше, чем сознавал, чем фиксировал всю ее чудовищность, превосходящую мои силы (по крайней мере мои силы еще живого человека), и в этом сознании своей беды я был сомнительно спокоен; стиснув зубы, я старался держаться. То, что я при этом немного ломал комедию, я легко себе прощаю, так как мой вид (конечно, уже не в первый раз) был слишком загробным, чтобы с помощью отвлекающей музыки мне не захотелось прийти присутствующим на помощь; попытка не удалась, она не удается никогда, но она не состоялась». «Дневник» отмечает то же самое в день отправления Фелицы: «Головные боли (бренные останки комедианта)». Кафка на этот раз, по всей видимости, навсегда отвернулся от Фелицы. Он может еще притворяться, спрашивая себя 25 сентября, имеет ли право туберкулезник брать на себя риск иметь детей, и приводит пример отца Флобера. Но это не более чем последние судороги вечного вопроса.
В этой истории, пожалуй, должен быть краткий эпилог. Фелица покинула Цюрау 21 сентября. 8 октября Кафка отмечает: «Жалобные письма от Ф., Г. Б. (Грета Блох. — Авт.) грозится прислать письмо». 16-го он отправляет последнее письмо Фелице. В конце года он возвращается на несколько дней в Прагу, чтобы встретиться со своими нанимателями и проконсультироваться у врачей. 19 декабря Фелица объявляет о визите, Кафка ей телеграфирует 21-го. 25, 26 и 27 «Дневник» отмечает: «Отъезд Фелицы. Я плакал. Все сложно, лживо и, однако, справедливо». 30 декабря: «В основном не разочарован».
Таковы последние слова этой долгой истории. Некоторое время спустя Фелица вышла замуж. У нее было двое детей, и закончила она свою жизнь в Америке. Говорят, что ее потомки проклинают имя Кафки.
После публичного чтения в Мюнхене Кафка пишет Фелице 7 декабря 1916 года: «После двух лет, в течение которых я ничего не написал, я имел фантастическую наглость дать публичное чтение, в то время как уже полтора года я ничего не читал в Праге моим лучшим друзьям». Действительно, линия литературного творчества Кафки часто прерывалось; плодотворные периоды разделялись долгими фазами бесплодия. До этого времени продуктивные этапы следовали один за другим с интервалом в два года: в 1912-м он сочиняет «Приговор» и «Превращение», в 1914-м — «Процесс» и «В исправительной колонии». В момент, когда Кафка пишет Фелице эти обескураженные строки, он еще не знает, что вот-вот откроется новый счастливый период. Он будет, вероятно, самым продолжительным из всех ему отпущенных периодов и продлится больше года, в то время как все остальные угасали в течение нескольких месяцев. Произведения, которые увидят свет в 1917–1918 годах, возможно, не самые амбициозные из написанного Кафкой, но они, без сомнения, наиболее законченные. Это в основном небольшие тексты, краткость придает им некоторую загадочность, они крайне изысканные по форме, словно Кафка вновь находил по ту сторону анекдота и личных конфликтов литературные требования своих дебютов. Крупные произведения последних лет, как, например, «Исследования одной собаки» или даже «Замок», сохранят еще в большей мере характер набросков. В некоторых же текстах 1917 года Кафке удается даже преодолеть недоверие, которое он испытывает к тому, что пишет. Так, он отмечает в своем «Дневнике» в сентябре: «Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как «Сельский врач», при условии если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно)». Кстати, он согласится, чтобы шесть его произведений были напечатаны в различных журналах 1917 года, сразу же после их написания. Такая снисходительность по отношению к своей продукции для него непривычна. В сентябре он вступает в переговоры со своим издателем Куртом Вольфом о публикации сборника рассказов. Книга, которая содержит четырнадцать маленьких текстов, появляется в 1919 году под названием «Сельский врач». Кафка посвящает ее своему отцу. В этих рассказах самые интимные коллизии описываются деликатно или завуалировано, так что книга могла быть предложена взгляду самого строгого из судей. Мы не знаем, что о ней думал Герман Кафка, мы не знаем даже, сделал ли он усилие, чтобы ее прочитать. Но Кафка писал в письме Максу Броду: «Не потому, что это помогло бы примириться с отцом, у этой вражды такие корни, что их так просто не выдерешь, но все-таки я бы кое-что сделал, пусть и не переселился бы в Палестину, но хоть провел бы пальцем по карте». В этих словах необязательно видеть привязанность Кафки к сионизму, от которого в 1918 году он был еще далеко, но наверняка можно усмотреть желание реинтегрироваться в традицию.