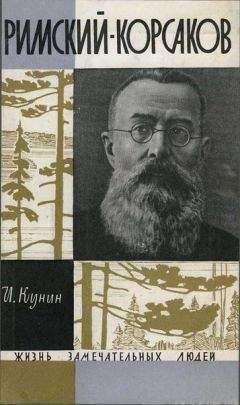Мы встали на трамплин, я раскачался и прыгнул ласточкой, а он вслед за мной…
Как потом выяснилось, трамплин был высотой пять с половиной метров, а глубина реки в этом месте т- всего полтора метра и дно каменистое. Я помню резкую боль сначала в кончиках пальцев сложенных Рук, потом в плечах, потом хруст и оглушающий удар шеей о камни дна. Уже теряя сознание, я всплыл спиной кверху и меня вытащили. Иман раскроил голову, но из воды вышел сам. На голове и на плечах его, как волосы у моих любимых мушкетеров, лежала кровь. Пошатываясь, он сделал несколько шагов и рухнул, а я потерял сознание. Мой друг умер через несколько часов.
"Скорая помошь" — тяжелая черная машина «роллс-ройс», вызванная одним из работников МК, застряла, не доехав до лагеря, на размытой после недавних дождей грунтовой дороге. Ее с трудом водворили обратно на шоссе, мощеное булыжником. Несколько километров меня несли до нее на носилках, сменяясь по очереди, пионервожатые и кое-кто из гостей. Я то терял сознание, то ненадолго приходил в себя.
Заведовал десятым хирургическим корпусом Боткинской больницы, куда меня положили, профессор Алексей Дмитриевич Очкин, Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с ним дружили. Алексей Дмитриевич был хирургом номер один. Высокий, красивый, великолепный, шумный, он, как и некоторые другие талантливые выходцы из народа, сочетал в себе неизвестно где схваченные барские манеры с беззаветным трудом, был грозен и милостив, ко многому нетерпим, но и понимал и прощал многое. Он был завзятым англоманом (что на Руси не редкость), и был на редкость талантлив и упрям.
Он встретил машину "скорой помощи", которая привезла меня, на крыльце корпуса, прорычал мне вместо приветствия какое-то добротное ругательство и велел поместить в изолятор на четыре койки. Там лежали больные только с переломами позвонков. За время, которое я там находился, в изоляторе перебывало 13 больных, все не старше 25 лет, но выжил я один.
Это было совсем непросто. После рентгена меня положили на спину на вытяжение на доски, покрытые простыней. Огромный толстый кожаный ошейник охватывал шею, подпирал подбородок и был двумя ремнями закреплен за спинку кровати. Пока я лежал на вытяжении, вернулась чувствительность в ногах и они задвигались, тогда их придавили мешочками с песком. Потом сняли ошейник, наложили большой гипсовый панцирь, который закрывал почти всю грудь, всю шею, фиксировал голову совершенно неподвижно. Потом стала возвращаться чувствительность и по всему телу. Заныли вправленные после вывиха руки, «задергали» неизбежно возникшие пролежни, почему-то все тело, то равномерно-ноюще, то острыми уколами заболело. Речь восстановилась, хотя и постепенно и с трудом. Руки оставались неподвижными, только на левой руке ожил указательный палец. Тут подошла новая беда. После долгого перерыва почувствовав свое тело, раньше такое сильное, а теперь все ноющее, распростертое неподвижно на кровати, я стал презирать и ненавидеть его и всего себя тоже. Я сделался мрачным, замкнутым, упрямо невосприимчивым даже к тому маленькому палатному мирку, который открывался моим глазам, к посещениям близких, к врачам. Мне казалось, что внешне я совершенно бесстрастен, однако и медицинские сестры (они шутливо и сочувственно называли обитателей нашей палаты "беспозвоночными"), и Алексей Дмитриевич очень хорошо поняли мое состояние, почувствовали его. И тут я даже 1с некоторым злорадством заметил, что Алексей Дмитриевич стал впервые нервничать. Я натянуто улыбался его грубоватым шуткам, вполуха слушал рассказы о [различных событиях его прихотливой и во многом удивительной жизни. Он стал присылать ко мне свою жену — умную, изящную Нину Федоровну, врача-психиатра. Она приходила не раз и просиживала со мной подолгу, ведя в самом деле очень толковые, интересные разговоры, но мне не было до них дела. Я все больше терял вкус и интерес к жизни, все больше презирал себя.
Однажды вечером, когда все в палате уже спали и горел только неяркий ночник, находившийся в стене почти у самого пола, в палату вошла и подошла ко мне Светловолосая, с васильковыми глазами медсестра Маруся, которая была лишь немногим старше меня.
— Ты что, подменяешь кого-нибудь или на ночь к кому приставили? — спросил я довольно равнодушно.
— Вроде того, — беспечно ответила Маруся и вдруг, раздевшись догола, легла рядом со мной в постель и накрылась одеялом. Поняв в чем дело, я зло сказал ей:
— Убирайтесь к черту! Не нужна мне твоя жалость. — И так как она не думала уходить, то далее обматерил ее.
В пионерском отряде, а потом в комсомольской ячейке меня учили, что жалость, — это мещанское чувство, постыдное для того, что жалеет и особенно для тех, кого жалеют. И я верил в это. Я не знал тогда, что жалость, сострадание — самое великое чувство, которое вложил в нас Всевышний, и тот кто полон этим чувством, более всего приближен к Его престолу. Недаром на Руси слова «любить» и «жалеть» — почти синонимы и очень часто стоят рядом.
Я не подозревал тогда всего этого и презирал жалость еще больше, чем свое искалеченное тело. Однако все это не производило на Марусю никакого впечатления. Она потянулась, сказала:
— А я вовсе и не думаю жалеть тебя. Мне просто приятно с тобой полежать, — и, обвив мою голову сверху руками, несколько раз поцеловала меня в губы.
В голове у меня помутилось, всего меня обдало жаром, сердце забилось часто и сильно, и я замолчал. Сколько так пролежала со мной Маруся, не знаю: иногда мне казалось — один миг, иногда, что много, много часов. Потом она бесшумно встала, оделась и молча ушла, на прощанье поцеловав меня. Так было еще три ночи. И то, чего не могли добиться знаменитый профессор и блестящий психиатр, его жена, то сделала девушка, сама едва вышедшая из отроческого возраста. В последний раз она лежала в постели уже не с уродом, а с парнем, пусть с гипсом на груди и шее, пусть пока прикованным к постели, но с парнем, готовым и жаждущим жить, любить, бороться. Я стал выздоравливать, с каждым часом чувствовать себя сильнее, то и дело ловил в себе новые проявления жизни и здоровья.
Алексей Дмитриевич провел синим карандашом косую линию через весь мой гипс, на равном расстоянии нарисовал на ней красивые кружочки и пронумеровал их.
— Сегодня ты дотянешься левой рукой до первой станции, чертов ныряла, понял?
— Понял, понял, — счастливо улыбнулся я и тут же, цепляясь указательным пальцем за гипс, стал тянуть руку. Она без труда добралась до кружочка с номером один. — Э, да ты изрядный симулянт, я вижу, — проворчал Алексей Дмитриевич, — тогда изволь сегодня же подняться до третьей станции.