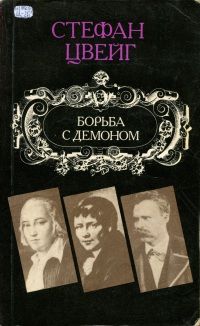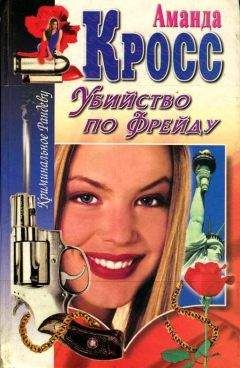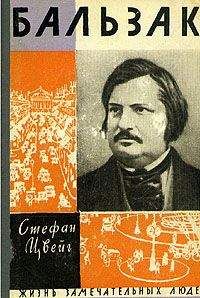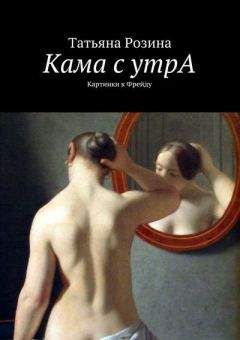СТРАСТЬ К ПРАВДИВОСТИ
Твой долг единый: чистой будь!
«Passio nuova или страсть к справедливости» — гласит заглавие одной из задуманных в юности книг Ницше. Он так и не написал ее, но — и это нечто большее — он воплотил ее в жизнь. Ибо страстная правдивость, фанатическая, исступленная, возведенная в страданье правдивость — вот творческая, эмбриональная клетка роста и превращений Фридриха Ницше: здесь кроется, крепко вцепившись в мясо, мозг и нервы, тайная стальная пружина, непрестанно напрягающая его потребность мыслить и, словно спущенный курок, смертельной силой пули стремящая его ко всем проблемам жизни.
Правдивость, справедливость, честность — несколько неожиданным кажется, что основным жизненным импульсом «аморалиста» Ницше служит столь обыденный идеал — то, что мирные обыватели, лавочники, торгаши и адвокаты гордо называют своей добродетелью, — честность, правдивость до гробовой доски, истовая, истинная добродетель нищих духом, самое посредственное и условное чувство. Но в чувствах интенсивность — это все, содержание безразлично; и демоническим натурам дано самые, казалось бы, огражденные и укрощенные понятия возвращать творческому хаосу, сообщая им безграничное напряжение. Самые безразличные, самые стертые условности зажигаются для них разноцветными огнями экстаза и восторга: все, к чему прикоснется демон, становится вновь причастно хаосу и его неукротимой силе. Потому и правдивость Ницше не имеет ничего общего с выветрившейся в корректность справедливостью людей порядка: его любовь к правде — это пламя, демон правды, демон ясности, дикий, алчный, ненасытный хищный зверь с обостренным чутьем и с неутолимым охотничьим инстинктом. Правдивость Ницше ни одним атомом не соприкасается ни с укрощенным, прирученным, вполне домашним, торгашеским инстинктом осторожности, ни с неуклюжей, воловьей правдивостью Михаэля Кольгаса, свойственной мыслителям в шорах (вроде Лютера[112]), которые, ничего не видя по сторонам, в бешенстве набрасываются на одну единственную, на свою правду. Как бы ни были порывисты и необузданны вспышки этой страсти у Ницше, все же она слишком нервна и слишком заботливо вскормлена для того, чтобы ограничивать себя: никогда она не сковывает свой бег раз навсегда определенным направлением, никогда не связывает себя одной определенной проблемой: сверкающим пламенем устремляется она от проблемы к проблеме, каждую поглощая и пронизывая светом и ни одной не насыщаясь. Великолепен этот дуализм: никогда не иссякает у Ницше страсть, никогда не убывает его правдивость. Быть может, никогда не обнаруживал психологический гений такого постоянства, такой силы характера.
Поэтому Ницше более, чем кому–либо, дана в удел ясность мышления: для кого психология — страсть, тот все свое существо ощущает с таким сладострастием, которое устремляется только к совершенству. Честность, правдивость, эти, как я уже сказал, обывательские добродетели, которые обычно ощущаются вещественно, как необходимый фермент духовной жизни, у Ницше звучат как музыка. Изумленные переплетения, контрапунктические нагнетания в его стремлении к правде — это как бы мастерская фуга интеллекта, в бурных нарастаниях из мужественного andante переходящая в великолепное maestoso, непрестанно обновляющаяся в дивной полифонии. Ясность превращается здесь в магию. Этот полуслепой, ощупью передвигающийся человек, подобно сове проводящий свою жизнь в темноте, in psychologicis обладал соколиным зрением, которое в один миг взором хищной птицы уверенно схватывает на бесконечном небосклоне своего мышления самые неуловимые признаки, самые тонкие, самые незаметные нюансы. Ничто не укроется от его познавания, ничто не обманет его беспримерную проницательность: словно рентгеновским лучом пронизывает его взор одежду и кожу, шкуру и мясо и проникает в глубь всякой проблемы. И, как нервы его отмечают всякое изменение в атмосферном давлении, так его вскормленный нервами интеллект безошибочно реагирует на каждый нюанс в духовном мире. Психология Ницше проистекает не из алмазной твердости и ясности его рассудка: она составляет интегральную часть изощренной оценочной способности, свойственной его организму; он пробует на вкус, вынюхивает и буквально физически чует — «мой гений — в моих ноздрях» — все нечистое, несвежее в человеческом, нравственном мире. «Предельная чистота во всем» — для него не нравственная догма, а первичное, необходимое условие существования: «Я погибаю в нечистых условиях». Неясность, нравственная нечистоплотность действует на него угнетающим и раздражающим образом — так же, как грозовые тучи — на его желудок; телом он реагирует прежде, чем духом: «Мне свойственна совершенно сверхъестественная возбудимость инстинкта чистоты — в такой мере, что я физиологически ощущаю — обоняю — близость или тайные помыслы, внутренности всякой души». Безошибочным чутьем он улавливает запах моралина, церковного ладана, ложного искусства, патриотической фразы, всего, что одурманивает совесть: он обладает исключительно тонким обонянием, исключительной чуткостью к тлетворным, гнилостным, нездоровым запахам, к запаху духовной нищеты; ясность, чистота, чистоплотность — такие же необходимые условия существования для его интеллекта, как чистый воздух и ясный ландшафт — я уже говорил об этом — для его тела: здесь психология действительно становится, как он сам требовал, «истолкованием тела», продолжением восприимчивости нервов в область мозга. Все остальные психологи перед его пророческой проницательностью кажутся тупыми и топорными. Даже Стендаль, вооруженный столь же тонкими нервами, не может с ним сравниться: ему не хватает этого акцента страстности, этой стремительности натиска; он лениво записывает свои наблюдения, тогда как Ницше всей тяжестью своего существа бросается на каждое познавание, будто хищная птица с безграничной высоты на мелкую тварь. Один только Достоевский обладает таким же ясновидением нервов (тоже благодаря чрезмерной напряженности, болезненной, мучительной чувствительности); но в правдивости даже Достоевский уступает Ницше. Он может быть несправедлив, пристрастен в своем познавании, тогда как Ницше даже в экстазе ни на шаг не отступит от справедливости. Поэтому не было, быть может, человека, который бы в такой мере был предназначен природой в психологи духа, который бы в такой мере мог служить выверенным барометром для метеорологии души; никогда исследование ценностей не располагало более точным, более совершенным прибором.
Но для совершенства психологии недостаточно самого тонкого, самого острого скальпеля, недостаточно самого изощренного инструмента духа: надо, чтоб и рука психолога была стальной, металлически твердой и гибкой, чтобы она не дрогнула во время операции. Психология не исчерпывается дарованием; психология прежде всего — дело характера, мужества «продумывать все, что знаешь»; в идеале (осуществленном в Ницше) — это способность к познаванию в сочетании с исконной мужской волей к познаванию. Истинный психолог должен не только уметь видеть, но и хотеть видеть; он не имеет права, уступая сентиментальной снисходительности, робости, страху, закрывать глаза, закрывать мысль на что бы то ни было или усыплять свое внимание осторожностью и сентиментами. Им, призванным ценителям и стражам, для которых «бдительность является долгом», не пристала терпимость, робость, добродушие, сострадание — слабости (или добродетели) обывателя, среднего человека. Они, воители и завоеватели духа, не смеют выпустить из рук истину, настигнутую ими в отважных дозорах. В области познания «слепота — не заблуждение, а трусость», добродушие — преступление, ибо тот, кто боится стыда и насилия, воплей обнаженной действительности, уродства наготы, никогда не откроет последней тайны. Всякая правда, которая не достигает предела, всякая правдивость без радикализма лишена нравственной ценности. Отсюда суровость Ницше к тем, кто из косности или трусости мышления нарушает священный долг неустрашимости; отсюда его неумолимость к Канту., который через потайную дверь ввел в свою систему понятие бога; отсюда его ненависть ко всякому зажмуриванью глаз в философии, к дьяволу или «демону неясности», который трусливо маскирует или сглаживает последнее познание. Нет истин «крупного стиля», которые были бы открыты при помощи лести, нет тайн, готовых доверчиво совлечь с себя покровы: только насилием, силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны, только жестокость позволяет в этике «крупного стиля» установить «ужас и величие безграничных требований». Все сокровенное требует жестких рук, неумолимой непримиримости; без честности нет познания, без решимости нет честности, нет «добросовестности духа». «Там, где покидает меня честность, я становлюсь слеп; там, где я хочу познать, я хочу быть честен, то есть строг, жесток, жесток, неумолим».