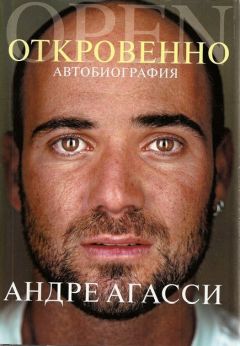Я выбираю отдых. Отказываюсь от всех занятий, связанных с нагрузками на кисть. Несколько недель ношу свое запястье нежно, как раненую птицу. Однако это ничего не дает: я по-прежнему не в состоянии отжаться или даже открыть дверь без гримасы боли.
Единственное, что радует меня в травме запястья, — возможность проводить больше времени с Венди. В начале 1993 года вместо сезона кортов с твердым покрытием я открываю сезон Венди — и наслаждаюсь им изо всех сил. Она рада, что я могу уделить ей так много внимания, хотя и сокрушается из-за пропущенных занятий, она ведь вновь поступила в колледж, уже пятый. Или шестой. Я давно сбился со счета.
Мы едем по бульвару Рейнбоу, опустив стекла и включив радио. Веду машину левой рукой, чтобы не побеспокоить больное запястье. Весенний ветер треплет Венди волосы. Она выключает радио и говорит о том, как давно пытается понять, кто она такая.
Я киваю и вновь включаю приемник.
Венди опять выключает радио и продолжает: она пыталась учиться во всех этих колледжах, жила в разных штатах, она все время искала цель и смысл жизни, но у нее ничего не получается. Она не в состоянии разобраться в себе.
Я киваю. Мне знакомо это чувство. Победа на Уимблдоне его ничуть не изменила. Затем я внимательно смотрю на Венди, осознавая, что она говорит все это не просто так. Она пытается сообщить мне что-то важное. Повернувшись на сиденье, она заглядывает мне в глаза:
— Андре, я долго думала обо всем этом, и мне кажется, я не смогу быть счастлива, по-настоящему счастлива, если не смогу понять, кто же я на самом деле и какой должна быть моя жизнь. Но у меня ничего не получится, если я останусь с тобой.
Слезы бегут по ее лицу.
— Я не могу больше быть твоим закадычным другом, товарищем по путешествиям, фанатом. Вернее, я всегда останусь твоим фанатом, но… ты понимаешь, да?
Она будет искать себя, а для этого она должна быть свободна.
— И ты тоже, — добавляет она. — Каждый из нас не сможет достигнуть своих целей, если мы останемся вместе.
Даже открытые отношения для этого слишком закрыты.
Не могу с ней спорить. Если она так считает, что ж, мне нечего сказать. Я хочу, чтобы она была счастлива. И как раз в этот момент по радио начинает звучать наша песня. «I Will Always Love You». Я пытаюсь поймать ее взгляд, но она отводит глаза. Тогда я разворачиваюсь и еду обратно, к ее дому. Мы вместе доходим до входной двери, и Венди еще один, последний раз обнимает меня на прощание.
Я едва в состоянии добраться до конца квартала. Вывалившись из машины, я звоню Перри. Когда он берет трубку, не могу говорить: горло сжимают рыдания. Кажется, он принимает мой звонок за чью-то неудачную шутку.
— Алло! — раздраженно повторяет он. — Говорите же!
И вешает трубку.
Я перезваниваю вновь, но все еще не в состоянии говорить. Перри вновь кладет трубку на рычаг.
НИКОГО НЕ ХОЧУ ВИДЕТЬ. Запираюсь в своей холостяцкой берлоге, где напиваюсь, сплю и питаюсь фастфудом. У меня начинаются стреляющие боли в груди, на которые я жалуюсь Джилу. «Диагноз — разбитое сердце», — отвечает он.
— Кстати, что у нас насчет Уимблдона? — интересуется он. — Пора начинать думать об Англии. Пора работать, Андре. Время не ждет.
Я с трудом могу удержать телефонную трубку, не говоря уже о теннисной ракетке. И все же собираюсь в Англию. Быть может, это поможет мне отвлечься. В пути можно будет пообщаться с Джилом, это полезно. Кроме того, я все-таки чемпион прошлого года и должен защищать свой титул. У меня нет выбора.
Незадолго до вылета Джил договаривается с одним из лучших врачей Сиэттла об уколе кортизона для меня. Укол помогает: прилетаю в Европу, свободно двигая запястьем, не испытывая боли.
Мы летим в немецкий город Халле на предварительный турнир. Там нас встречает Ник, который сразу заводит со мной разговор о деньгах. Он залез в долги; чтобы расплатиться с ними, продал академию Боллетьери — и это была самая большая ошибка в его жизни. Он отдал ее слишком дешево. Теперь ему нужны деньги. Он не в себе или, напротив, сейчас больше похож на себя, чем когда бы то ни было. Он заявляет, что я плачу ему гораздо меньше, чем следует, что его инвестиции в меня не окупились. Он потратил на меня сотни тысяч долларов и хотел бы получить эти сотни тысяч, вдобавок к тем сотням тысяч, что я уже заплатил ему. Я прошу его отложить объяснения до дома: сейчас мои мысли заняты другим.
— Конечно, — говорит он. — Когда вернемся.
Я настолько выбит из колеи этим разговором, что на турнире в Халле проваливаю матч первого крута против Штееба. Он обыгрывает меня в трех сетах. Неплохо для предварительного турнира.
В прошедшем году я почти не играл, а когда это все-таки случалось, результаты были откровенно плохи. Неудивительно, что из прошлых чемпионов Уимблдона за всю его историю я посеян ниже всех. Мой первый соперник — Бернд Карбахер, немец, чьи густые черные волосы к концу матча выглядят не хуже, чем в начале, а это, разумеется, не может меня не раздражать. Весь внешний вид Карбахера невольно приковывает внимание. Помимо шикарной прически, он — обладатель впечатляюще кривых ног. У Бернда не просто кавалерийская походка, он ходит так, будто только что слез с лошади после долгой скачки, отбившей ему всю задницу. Да и играет он весьма странно. У него очень сильный удар слева, один из лучших в мире, но он использует его лишь чтобы поменьше бегать по площадке. Он ненавидит бегать. С подачей тоже справляется далеко не каждый раз: при агрессивной первой, его вторая подача оставляет желать лучшего.
Впрочем, при больном запястье и у меня хватает проблем с подачей. Приходится менять привычный ход руки, укорачивая мах назад и избегая резких движений. Это создает немало проблем. В первом сете отстаю от противника — 2–5. Похоже, мне предстоит стать первым за десятилетия экс-чемпионом, вылетевшим прямо в первом круге. Беру себя в руки, укорачиваю подачу и в итоге добиваюсь победы. Карбахер скачет на своем коне обратно в туман.
Британские болельщики отличаются доброжелательностью. Они приветствуют меня, ревут от восторга, ценят усилия, которые я пред-принимаю, чтобы привести в порядок больную руку. Британские таблоиды — совсем другое дело: они сочатся ядом. Из всей информации обо мне они повторяют лишь историю о том, как я побрил себе грудь. Всего-то удаление волос, а шуму подняли, будто я отрезал себе конечность. У меня сломано запястье, а они пишут о бритой груди. Моя пресс-конференция превращается в шоу цирка «Монти Пайтон»: каждый второй вопрос посвящен красоте моей груди. Таблоиды озабочены темой волос — хорошо еще, что они не знают о моих проблемах с растительностью на голове. Один репортер заявляет, что я растолстел, остальные подхватывают, с жестокой радостью дразня меня «королем гамбургеров». Джил пытается приписать мой внешний вид влиянию инъекции кортизона, которая вызывает отечность, но никто ему не верит.