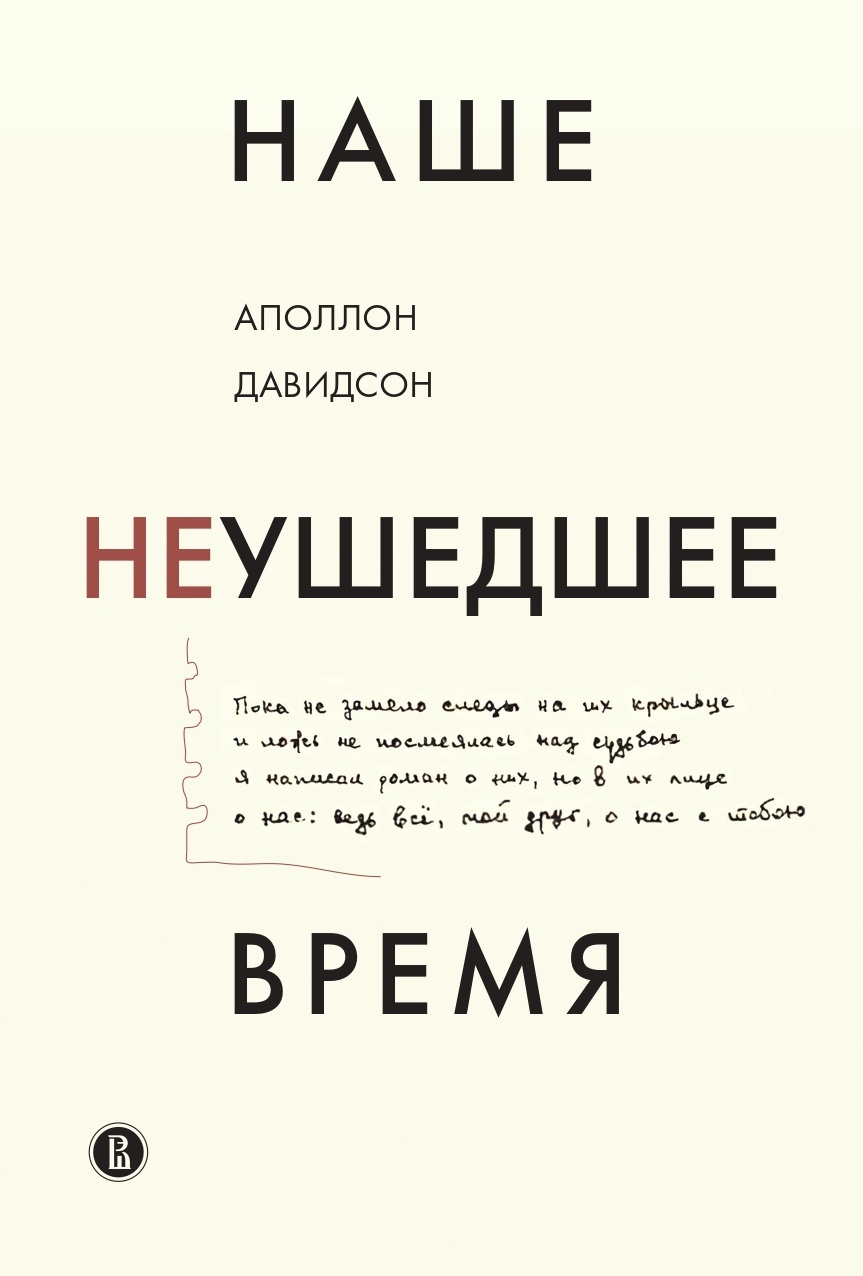книга «Образ Гумилёва в советской и эмигрантской поэзии» [219].
С Эммануилом Штейном я сдружился в конце 1980-х, когда преподавал в Йельском университете, и затем, когда он бывал в Москве. Я много узнал от него. А Вадим Крейд подарил мне свою книгу, когда приезжал в Москву. С надписью: «Дорогому Аполлону Давидсону, старому доброму заочному другу в день личной встречи».
* * *
Но сбылись слова Гумилёва:
Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный [220].
Это сбылось. Не только память о нем, но обо всем, что теперь называют Серебряным веком.
Моя радость в том, что меня это привлекало еще в детстве.
Шестьдесят лет, с начала 1920-х до 1986-го, не принято было не только издавать стихи и статьи Гумилёва, не только книги и статьи о нем, но даже произносить его имя.
Я это почувствовал на себе. В 1968 году в издательстве «Наука» вышел перевод с английского книги «Чака Зулу. Возвышение зулусской империи». В своем предисловии к ней я написал, что слово «Чака» упоминалось и «в стихах Гумилёва».
Когда книга вышла, директор Главной редакции восточной литературы Олег Константинович Дрейер вызвал меня и с горечью сказал:
– Мы же Вам так верим, а Вы меня под такую угрозу подставили!
И это – только за упоминание имени Гумилёва!
Но вопреки такому жесткому запрету стихи Гумилёва становились все более популярными. Печатались в Самиздате и ходили по рукам.
А в 1986 году, во время перестройки, когда Гумилёв был «реабилитирован», его столетие отмечалось уже легально. Его популярность «вышла наружу». Стало ясно, как она велика.
И вот – с 1986-го! – какой взрыв интереса к Гумилёву! Издаются сборники его стихов, собрания его сочинений.
Я это вижу и по студентам. Читаю в Высшей школе экономики курс лекций о Серебряном веке. Курс – из тех, которые называются «по выбору»: студенты выбирают тот, который им наиболее интересен. И каждый год немало студентов выбирают именно этот курс.
До 1917 года Гумилёву, как и другим поэтам Серебряного века, нередко приходилось издавать свои произведения за свой счет. Выходили они совсем маленьким тиражом: по 200 или 300 экземпляров. И до 1917-го особой популярности у них не было. Она возросла в советское время, после гонений.
Так разве не гонения и запреты привели к той широкой популярности Гумилёва и других авторов Серебряного века, которую мы теперь видим? Литературовед Роман Тименчик даже написал книгу «История культа Гумилёва» [221].
Те люди, среди которых я жил в детстве, юности, бывало, писали стихи. Но чтобы опубликовать их, зачастую не могло быть и речи.
Да и потом… Даже Окуджаве, Высоцкому, Галичу, Рождественскому легко ли было публиковать самое сокровенное?
Хочется думать, что сейчас таких уж жестких запретов стало меньше.
Когда мой друг, известный историк-медиевист Ада Анатольевна Сванидзе, стала собирать стихи историков, наших современников, и делать большой том «Вторая муза историка» [222], я согласился помогать ей. Написав к этому тому заключение, дал ему эпиграф из стихов Игоря Губермана:
Поэзия – нет дела бесполезней
в житейской деловитой круговерти,
но все, что не исполнено поэзией,
бесследно исчезает после смерти [223].
Вспомнил я о годах моей юности. Осенью 1948-го мы, первокурсники истфака Ленинградского университета, готовили, как было тогда положено, свою первую стенгазету. Но повесить ее на стену не могли – пока не утвердит начальство. Начальство – секретарь комсомольского бюро факультета – пришел. Стал разглядывать газету. Взгляд его упал на стихи. Простенькие, девичья лирика – их сочинила наша сокурсница. Но… сам факт привел его в негодование.
– Стихи? Зачем стихи? Газета должна воспитывать советскую молодежь! Зачем стихи?!
Так нам преподали урок. Важна идеология.
Ну, положим, наш тогдашний комсомольский командир – дуболом.
Но вот другой эпизод. Лет двадцать спустя. Популярный тогда журнал «Знание – сила» задал своим читателям, представителям нескольких профессий, вплоть до спортсменов, вопрос: «Как Вы относитесь к поэзии?». Один из тогдашних официальных генералов исторической науки ответил примерно так: «Ну, пописывал и я когда-то. Кто же в молодости не баловался стихами».
Как же я рад, читая стихотворения нынешних историков! Значит, их авторам было что сказать не только в научных трудах.
Конечно, сколько-то подробно поговорить тут о стихах этого огромного тома – почти восемьсот страниц – я не смогу, хотя многих из авторов хорошо знал.
Среди наилучших – стихи самой Ады Сванидзе. Ее имя, как поэта, известно: она издавала сборники своих стихов. Поэтому приведу лишь четыре отрывка. Не комментирую – они сами говорят о себе. И о своем авторе.
Душа моя, как и страна, зажата.
Как и она, едва могу дышать.
Отцы небесные, так в чем мы виноваты,
что вечно Русь обречена страдать? [224]
* * *
У меня есть мечта,
чтоб мечты никогда не кончались.
Пусть погода не та,
и на плечи ложится усталость,
………………………..
но в душе сохраняется место
для мечты, для звезды
и для их потайного соседства [225].
И такое – тоже обращение ко всем нам:
…Но, впрочем, прошлое всегда
мы в обольщенье ностальгичном
считаем более приличным,
чем наступившие года [226].
Мне опять радостно, что в книге «Вторая муза историка» явно видно влияние такой дорогой мне поэзии Серебряного века. Это выразилось даже в названиях многих стихотворений: «Марине Цветаевой», «Мандельштаму», «И. Северянину», «В. Брюсову», «Вертинскому», «Символический портрет Андрея Белого», «Сергей Есенин», «На могиле Сергея Есенина», «Памяти Н.С. Гумилёва».
Заключение к этой книге я закончил словами Ады Сванидзе:
В нашей жизни ученой
нечаянных радостей мало.
Тем ценней и милее,
когда среди будней крутых
вдруг улыбкой блеснет
и тебя улыбнуться заставит
дружелюбный кивок
и пожатие теплой руки [227].
«Вторая муза историка» – обращенный к каждому из нас дружелюбный кивок, пожатие теплой руки. От всех авторов сборника. И прежде всего от той, кто, скромно назвав себя составителем, подарила нам эту замечательную книгу.
Но для этой книги удалось собрать стихи