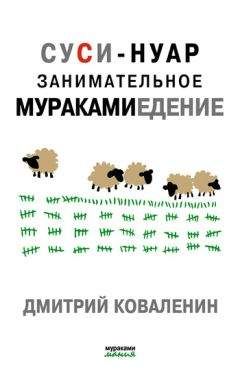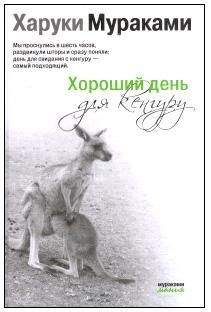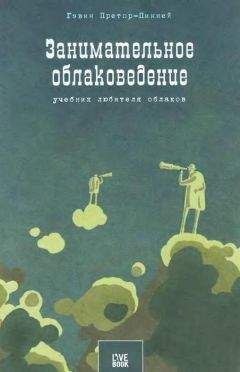– Значит, все-таки Достоевский? А что же Толстой?
– Толстой тоже… Но все-таки Достоевский.
– Но, скажем, русскую литературу ХХ века вы уже не очень хорошо знаете?
– Да, можно так сказать. То есть я, конечно, читаю… Недавно что-то такое читал…(Задумался, потом помотал головой.) Нет, что ни говори, всё-таки девятнадцатый.
– У ваших книг есть одна особенность, перенять которую я бы очень желал и нашим сегодняшним авторам. Подавляющее большинство наших писателей пишут в основном только для аудитории своей страны. То есть если попробовать это перевести на другой язык – это мало кому будет понятно и нужно. А ваши книги переводятся и отлично воспринимаются в самых разных странах. Откуда это у вас?
– В юности я читал сплошь зарубежную литературу. Лет до семнадцати – русскую, а затем сам выучил английский и переключился на американцев в оригинале. Поэтому мое письмо, можно сказать, – это некий «микс» из влияний русской литературы XIX века и американской прозы ХХ. А японской литературы, в общем, почти не читал.
– В «Хрониках» вы поднимаете тему Халхин-Гола, о которой десятки лет было, так сказать, «не очень принято» писать ни в России, ни в Японии, ни в Китае, ни в Монголии. Где вы собирали материал, чтобы писать об этом?
– Нигде.
– То есть как – вы все это придумали??
– Сначала придумал и написал. А уже потом поехал во Внутреннюю Монголию и в Китай. Поехал, проверил – и сам удивился: все очень похоже, такое действительно могло быть.
– Но если такие вещи не проверять, очень трудно кого-нибудь не обидеть или не разозлить…
– Но я же очень много прочел до того, как об этом писать. В разных книгах понемногу об этом написано. И общая атмосфера как-то прорисовывалась. Общие картины, настроение. И все это постепенно оседало в голове. Написал, проверил – все так и было.
– То есть об историчности вы особо не думали?
– Из соображений историчности я составил некий список фактов, которые потом проверял: это было, и это было, такие-то события действительно имели место. А в пространстве между этими фактами писал собственно повествование.
– А о японцах в русском плену – собирали документы или с кем-то советовались?
– Документы собирал, но ни с кем не советовался.
– В общем, чем больше я за всем этим наблюдаю, тем сильнее впечатление: может быть, придет день – и вся ваша разрозненная «русская эпопея» наконец соберется в единую книгу?
– Хм… (Молчит и улыбается.)
– Или скорее в сборник анекдотов о Троцком?
– В старших классах школы я прочитал биографию Троцкого. Мне он очень понравился…
– Что, и олени?[74] (Общий смех.) У русских это любимое место, все смеются.
– Я знаю многих японцев, которые ездили в Москву, чтобы этих оленей найти.
– А один мой знакомый, очень серьезный исследователь Японии, долго ругался в гостевой нашего сайта: «Это безответственность! Кто дал право Мураками искажать русскую реальность в голове японских людей?»
– Если честно, я тогда и представить не мог, что все это будут читать русские люди (Смеется.) … Вот такой я – вечно чего-нибудь привираю, прямо беда.
– В своих произведениях вы создаете неожиданно мягкие и «живые» женские персонажи. Хотя в традиционной японской литературе женские образы, как правило, абстрактно-размыты и служат лишь неким сопроводительным фоном для описания главных героев – мужчин. Это тоже влияние западной литературы или что-то еще?
– Японское общество очень патриархально. В каком-то смысле оно подобно жестко организованной фирме, в которой все подчиняется воле сильнейшего, мужского начала, этакой «воле отца». Я все это очень не люблю. То, что вокруг слишком много сурового мужского начала, сверх всякой необходимости. Мне всегда хотелось выправлять этот дисбаланс и выписывать женщин с мягкостью и любовью.
– В свое время меня шокировало, что женщине в японской фирме, как бы она ни старалась, никогда не дают продвинуться по службе выше начальника секции.
– Да-да, все оттого, что мужчина здесь слишком превозносит себя, кичится донельзя во всех своих социальных проявлениях. У меня к этому стойкое отвращение… Кроме того, есть ведь и гендерное разделение внутри человека, «анима» и «анимус»: в любом мужчине есть и женское начало, а в любой женщине – мужское. Каждый мужчина, проанализировав свои мысли и поступки до мельчайших деталей, обязательно заметит в себе и женщину. Но очень многие мужчины не хотят признавать, что в них есть и женское начало. Предлагаешь им на него посмотреть – а они отворачиваются. Ну а я – человек, который пишет, я хочу описывать все, что вижу. Когда я замечаю в себе какие-то женские проявления, я начинаю их описывать – и получаются мои женские персонажи.
– Но в разных людях соотношение мужского и женского неодинаково, верно?
– Да, разумеется.
– Тогда, извините за прямоту, каково примерно это соотношение внутри вас? Ну, может, не в процентах, но все-таки…
– В моем случае никакого соотношения нет. Просто у меня внутри живут и женщина, и мужчина, и каждый из них совершает свою, отдельную работу. Кого из них больше, кого меньше – так я в принципе вопрос для себя не ставлю. Я не знаю, как ощущают это в себе другие люди, а также плохо представляю, как эти двое уживаются у меня внутри.
– Вы хотели бы приехать в Россию?
– Хотел бы, но у меня столько дел… Не знаю, когда и выберусь.
– Но не из страха, что вы плохо понимаете, как и что там сейчас?
– Нет, вовсе нет. Просто… Я пишу путевые заметки, публикую их в журналах. Поездки куда-либо – это всегда часть работы. Если получится, может быть, в следующем году. Вот только… куда, по-вашему, поехать было бы интересней всего?
Наступает мой «звездный час». Следующие 15 минут я «гружу» его информацией о своей родине – острове Сахалин. О корейских невозвращенцах, детях-полукровках от японских пленных, исполинских папоротниках, кленах и лопухах, буях с иероглифами после шторма на взморье, вымерших айнах и «невернутых» японцам же островах, которые в ясный день просматриваются с мыса Крильон.
– (Всерьез задумавшись.) М-да, Сахалин – это действительно интересно… А что, если я туда соберусь – скажем, в следующем году, как потеплее станет, – вы составите мне компанию?
– А как же!