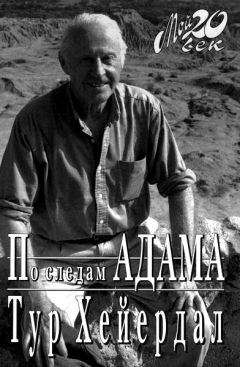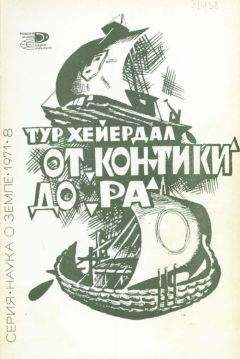Океан, горы, лес или пустыня — все это подарили нам силы созидания ко дню рождения. Природу по-настоящему любит тот, кто разделяет вкусы Творца. Войдите в Божий храм, будь то синагога, церковь или мечеть, и вы услышите одну и ту же историю о том, как Господь создал мир, а затем день отдыхал, преисполненный гордости за творение рук своих.
Мой невидимый двойник пребывал в разговорчивом настроении. Наша беседа текла легко, как и мои собственные мысли, в то время как мое бренное тело задыхалось от разреженного воздуха и молило об отдыхе для уставших мускулов.
— Почему ты все время стремишься все выше и выше?
— Потому что только забравшись высоко в горы можно насладиться такой красотой. И в науке — то же самое. Хотя нельзя не признать, и внизу, в долине, тоже очень красиво. Но есть риск, что со временем твой горизонт сузится до опасных пределов.
Мы добрались до уступа на высоком утесе из застывшей лавы. Куда ни бросишь взгляд, отсюда открывалась завораживающая панорама. Жаклин уселась рядом со мной, и, тяжело дыша, мы принялись осматривать окрестности.
— Сидя на вершине горы посреди острова и глядя на океан, чувствуешь себя в полной безопасности, — заметила Жаклин.
Как обычно, я согласился. Возможно, это просто атавизм — никто неожиданно не выскочит на тебя из темного леса. А может, все дело в генетической памяти, сохранившейся с тех времен, когда наши биологические предки выползли из океана на сушу и впервые вдохнули воздух. В любом случае, одно я знаю точно: океан был источником жизни на земле, и пока в океане остается жизнь, жизнь будет продолжаться и на суше. Но если океан умрет, то высохнет и погибнет планктон, и тогда одни леса не смогут давать в атмосферу необходимое количество кислорода. И тогда нашим потомкам мало поможет тот факт, что у них легкие вместо жабр.
Мы лежали рядом и смотрели на голубое небо и голубой океан. Наши глаза мало-помалу закрывались, и вскоре Жаклин уснула.
— В самый разгар «холодной войны» ты бывал в Советском Союзе. Что ты думаешь о коммунизме?
Мне довелось увидеть коммунизм как изнутри, так и будучи в странах, балансирующих на грани между коммунизмом и капитализмом. Я видел страны, в которых царит ужасающая нищета, где тоненькая прослойка правящего класса отказывается признать, что его народ голодает. И я понял, что общество, в котором люди умирают от голода прямо на улицах, равно как и общество, неспособное обеспечить каждого своего члена пищей и кровом, является больным обществом. Когда человек болен, ему требуется лекарство. По-моему, коммунизм и является сильнодействующим лекарством. Если лекарство принимали достаточно долго и у каждого появилась еда и крыша над головой, можно от него отказаться. Здоровому обществу такое лекарство не требуется.
В остальном у меня нет ярко выраженной политической платформы. Пока я не знаю ни одной партии, которая выступала бы за все то, за что выступаю я, и отрицала бы все то, что я отрицаю. Во всех партиях есть что-то хорошее и что-то плохое. Помню, однажды я разговаривал со своим русским переводчиком Львом Ждановым и его престарелой матерью, маленькой, худенькой, морщинистой женщиной. Она рассказывала о своей молодости, о том, с какой радостью она участвовала в революции, о том, что красный флаг для людей ее поколения был символом новой жизни, жизни в человеческих условиях. Она говорила с таким энтузиазмом, что мне на память пришел образ Жанны д’Арк. Полагаю, окажись я в таких же обстоятельствах, что и эти люди, и я с таким же энтузиазмом встал бы под красные знамена.
При жизни Сталина книга о «Кон-Тики» была запрещена в Советском Союзе, и меня там совершенно не знали. После прихода к власти Хрущев дал согласие на ее перевод, и она тут же завоевала огромную популярность во всех странах Восточного блока. Тираж книги достиг миллиона экземпляров, и мои спокойные дни закончились. В спор вступили ученые мужи из Академии наук.
О, то были ученые в самом глубоком, чистом смысле этого слова — они специализировались в толковании надписей, которые сами не могли прочесть! Ведь до появления европейцев во всем тихоокеанском регионе — а он занимает ровно половину поверхности всего Земного шара — совершенно не имелось никакой письменности. Единственное исключение представлял собой остров Пасхи, где удалось обнаружить двадцать деревянных дощечек, покрытых иероглифами, но даже сами островитяне не могли их расшифровать. Небольшая группа московских языковедов и криптологов предприняла попытку про-читать надписи на «ронго-ронго», но на их труд никто не обращал никакого внимания до тех пор, пока отголоски бушевавших на Западе дебатов не просочились через «железный занавес» и не попали на страницы газет. Мой отважный переводчик, Лев Жданов, регулярно переводил на норвежский критические статьи обо мне и, невзирая на принятую в СССР практику перлюстрации писем, отсылал их мне. Словом, все началось сначала.
В те времена русских ученых практически не выпускали за границу, и уж конечно никто из них не бывал на острове Пасхи. Почта шла медленно, но после того, как я начал выступать в свою защиту, атаки советских ученых стали еще более агрессивными. Мне приходилось неделями ждать ответа на каждую свою реплику, поскольку цензоры выискивали во всем, что я писал, зашифрованные шпионские сообщения.
Но затем произошло неожиданное событие — на сцену вышел президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш, человек, запустивший в космос первый советский спутник. Он пригласил меня в Москву на встречу с академиками.
Я принял приглашение. Шел 1962 год, самый разгар «холодной войны». После завершения финской кампании я ни разу не встречал ни одного русского коммуниста, поэтому было вдвойне интересно предстать перед залом, битком набитым советскими учеными во главе с самим Келдышем.
Келдыш открыл собрание и предоставил слово руководителю отделения антропологии. Из зала поднялся крепко сбитый товарищ с внушительными усами а-ля Сталин, живое воплощение западного представления о коммунистах.
Я не понимал ни слова из того, что он говорил, но, судя по громогласному голосу и угрожающим жестам, он явно не рассыпался в комплиментах в мой адрес. Когда он закончил выступление и вернулся на свое место, наступила гробовая тишина. Переводчик как мог сгладил острые углы, но тем не менее суть аргументации моего нового оппонента оказалась для меня совершенно неожиданной.
Моя теория миграции в тихоокеанском регионе, оказывается, полностью не соответствовала ленинскому учению. Основатель советского государства утверждал, что причина любой миграции — либо перенаселение, либо вражеское нападение.