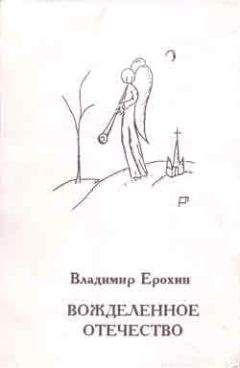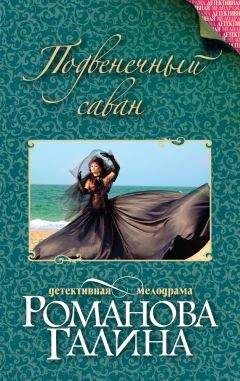— Позвольте мне ответить вам словами не очень чтимого мной поэта: "Я теперь скупее стал в желаньях". Мне кажется, нам нужно быть скромнее, иначе наши западные друзья предпочтут иметь дело с советским правительством, решив, что это им дешевле обойдётся.
В морозном автобусе, по дороге к метро, Дженифер возбуждённо шептала:
— Это было настоящее приключение!..
Меня певец с самого начала представил обществу, как импровизирующего саксофониста (я и вправду аккомпанирую ему иногда на этом инструменте). Хозяин дома стал восхищённо вспоминать недавно слышанный концерт Владимира Чекасина, но вдруг осёкся, обретясь ко мне":
— Простите, может быть, вам это неприятно? — Отчего же? — поразился я.
— Возможно, он — ваш конкурент... На что я чистосердечно ответил:
— У Чекасина нет конкурентов! Это правда.
Однажды я спросил моего учителя джаза, как отличить игру Чекасина, где явно присутствует хаотическая стихия, от бурно-сумбурных звуковых потоков его неумелых подражателей-авангардистов. Маэстро ответил так:
— Чекасин играет убедительно — ему можно доверять.
Впрочем, о том, что Чекасину можно доверять, я знал и раньше — когда принимал от него, в конце семидесятых, на перроне Белорусского вокзала секретную посылку для отца Александра — свежеперепечатанные главы из новой книги Меня — от машинистки, жившей в Вильнюсе.
— Читайте про Володьку Ульянова — опасного жука! — кричал на Пушкинской площади, размахивая самиздатским журналом "Российские ведомости", старый монархист Анатолий Кузьмич Булев — живописный, похожий на адмирала Нельсона.
Срослись боками на стене, сцепившись, серп и молот: сражённый крест, ссеченный полумесяцем.
Сновали с сетками-авоськами советские старики, как пауки, — мрачные, вёрткие, готовые на все.
Певец рассказал притчу:
— Сидим на нарах, на Колыме, трое: я — Петька, ты — Володька и Мишка Горбачёв. И он нам говорит: "Что же вы, ребята?! Я ведь вам открыл такую возможность — а вы её не использовали..."
Ему виделось: идёт парад на Красной площади. Генерал кричит, а солдаты его не слушают. И вот танкист поворачивает танк и въезжает в мавзолей!
Он мечтал, что на Красной площади явится Богородица, и большевики, как тараканы, расползутся.
Эмигрантка писала: мы должны забыть Россию, иначе тени прошлого не дадут нам жить.
Забыть Россию невозможно.
Я думаю, что Россия с этой земли ушла — как святые из храма Христа Спасителя.
Она ушла в диаспору.
Вышел сеятель в поле сеять. И пришёл враг, и засеял поле камнями.
Бредбери угадал Россию — землю вымерших марсиан.
— Почему евреи все делают с оглядкой?
— Они все делают с оглядкой на Бога. (Дурачина ты, простофиля. Зачем ты съел золотую рыбку?)
Через все небо, от края до края русской земли, раскинулась радуга — трехцветная, царская, крамольная.
Империя — множественное число (как и кавалерия, артиллерия, территория, и даже: Франция, Австрия, Россия).
А внизу бушевал пожар — красной тряпкой восстания, кровавыми сгустками звёзд.
Мне кажется, что советская пресса нас пугает — рассказами о пытках, истязаниях, массовых арестах и истреблении людей. Пугает жупелом Сталина, Берии, Ежова: ведь карательные органы остались, в них ничего не произошло. Так запугивают, терроризируют подследственного, пытая, мучая его близких или незнакомых людей в его присутствии — или за стеной, чтоб слышны были крики.
Само по себе членство в их партии должно считаться преступлением — как принадлежность к преступной организации. Само по себе сотрудничество с так называемой советской властью должно караться и преследоваться по закону как соучастие в мафии. Любая служба этому так называемому государству есть коррупция с бандой убийц, насильников и грабителей.
Я не должен думать о себе — я должен думать о своём деле. Я не должен забывать Россию: я должен забыть себя. Пусть она истерзана, истоптана, поругана, опоганена, испохаблена, осквернена. Пусть это отсталая страна, у которой отдавлены все конечности. Я жив, я действую — и этого достаточно для начала.
Эмиграция даёт метафизический выход — подобно монашеству, предательству и самоубийству. Подобно безумию. Это все уход из жизни. Из этой жизни. В сущности — в небытие (для этой жизни). В инобытие.
Они нас запугивают своими разоблачениями. Они нам жить не дают кошмаром прошлого. Сами же натворили (или их отцы и наставники, их духовные предтечи), а теперь садистски выставляют мерзость советчины всему миру напоказ. Это не мы — они пишут, печатают, захватив монополию массового слова. Им все позволено — вот они и раскричались. "Когда страна быть прикажет героем — у нас героем становится любой". Ещё Джо обращался к "братишкам-сестрёнкам" — как нищий в пригородном вагоне, — чтобы потом, когда немца пугнули, снова скрутить — спрут-партия, близнецы-братья: "Сталин — это Ленин сегодня". Упаси нас Господь и от того, и от другого. Они хотят затесаться в толпу, смешаться с массой, они орут: "Держи вора!" и думают этим отмазаться. Не выйдет! Мы им не верим. Большевики должны уйти.
Они должны предстать перед судом народа. Вот только народа, кажется, уже не осталось.
Нужен международный суд типа нюрнбергского. Я предлагаю провести его в городе Тамбове.
Их покаяние — ложь, лицемерие, тактический приём, финт или блеф. Они нуждаются в том, чтобы расположить к себе сердце Запада, заговорившего о правах человека. Пока есть Запад с его военной мощью и демократией, нам нечего бояться. А умирать — так уж с музыкой. Эту музыку я и пишу — чтоб умереть с ней.
Мы чувствуем себя как-то особенно торжественно — как моряки на тонущем военном корабле, надевающие лучшие одежды. Тихая, светло-радостная обречённость.
России больше нет. Есть территория, разорённая до последнего предела. "Есть разложившаяся масса — дегенератов — все, что осталось от народа. И кучка интеллигенции — последнее, что здесь есть живого, недобитого. Вся надежда на неё. Как сказал нам, студентам, Грушин в 69-м: "И на вас вся надёжа". Двадцать лет прошло. А он все надеется, насколько я его знаю. Это был его звёздный час. Мой ещё не настал. И теперь уже не настанет.
Захватила эту территорию и этот народ банда международных проходимцев. Так захвачено было княжество Монако в средние века — шайкой разбойников: притворившись монахами, они попросились в город на ночлег, а затем истребили сильных, а слабых поработили, и царили в нем несколько столетий. Потом, наверное, смешались с населением — только название осталось: Монако (от слова "монах"). Так и эти хотят смешаться с нами. Волки с овцами. Сожрали, обожрались, друг другу глотки пообрывали. Пришло время каяться. "Не знаете, какого вы духа". Да ясно, какого — сатанинского. Вот и пишут имя Ленина на своих кровавых знамёнах — главного разбойника. По-ленински — значит, по-бандитски. На что они рассчитывают, воздвигая перестроечный миф? На амнезию? На кого они рассчитывают? На западных простаков-либералов? На цинизм дельцов? На глупость нашу и рабскую покорность: съели революцию, пятилетки, террор, волюнтаризм, застой — съедим и гласность?