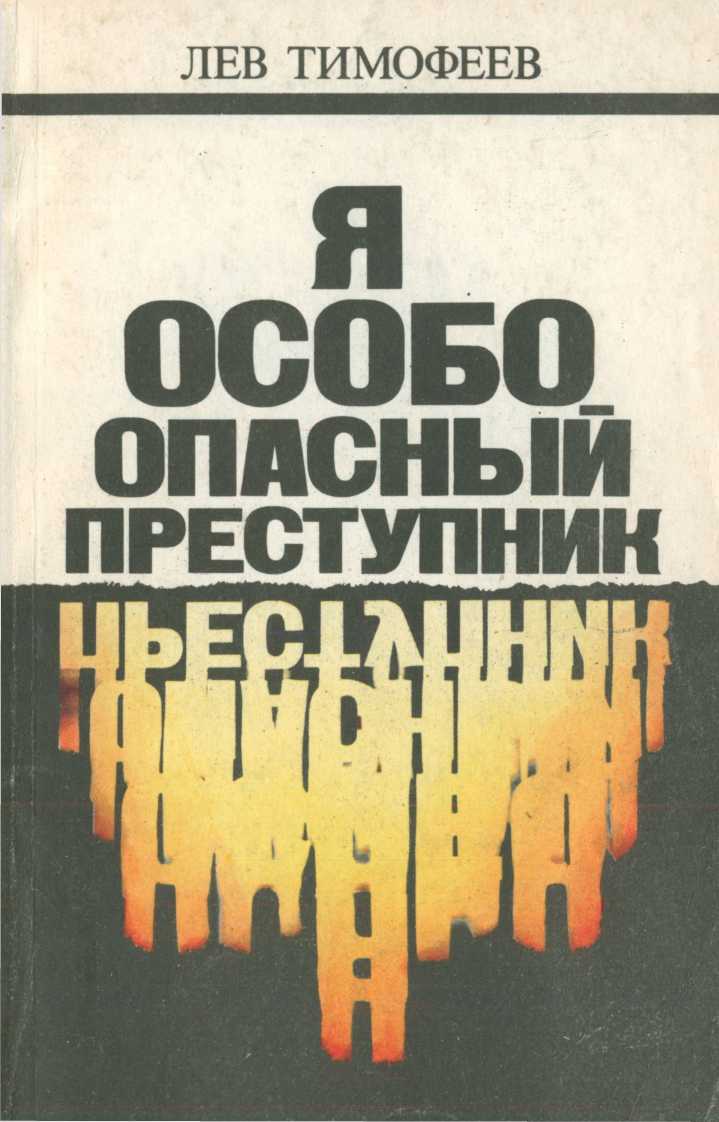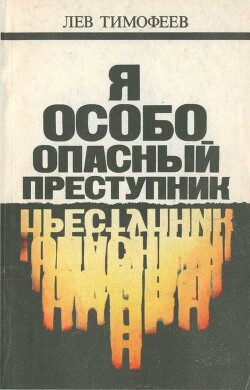машина, дрова привезти, не ходи к председателю колхоза, не даст. Договорись с шофером — тот привезет, украдет эту услугу из колхозного бюджета.
Где бы Аксинья Егорьевна или Гавря Тюкин могли бы купить машину песка, необходимого одной для ремонта печи, другому — для строительства дома? Нигде не купишь. Но можно договориться, чтобы для тебя украли. Вору заплатишь, как заплатила Аксинья Егорьевна тому шоферу.
Впрочем, шофер тоже не подбирался к песчаному карьеру тайно, аки тать в нощи, но подъехал среди бела дня, экскаватор нагрузил машину, и так же среди бела дня шофер поехал по селу, спрашивая, не нужен ли кому песок в обмен на бутылку водки.
В магазинах ничего не купишь: чего-то не привезли, а чего-то и в принципе не бывает в продаже. В колхозе не выпишешь, колхозу и самому невеликие фонды выделяются. А что можно бы и уступить частному лицу, то в первую очередь получают люди, которые около председателя кучкуются… И в то же время все кругом продается и покупается…
Легального рынка товаров и услуг, необходимых в крестьянском хозяйстве, не существует, но действует и процветает колоссальный рынок краденого. И если мы говорим, что основные фонды приусадебного хозяйства оцениваются сегодня десятью миллиардами рублей, то сумму ежегодных краж в сельской местности нужно оценивать миллиардами же рублей и не поднимать потешную возню по поводу того, что, по сведениям МВД, ежегодные хищения по всей стране отнимают-де у государства двести-триста миллионов.
Рынок краденых товаров и услуг процветает не только и не столько в сельской местности, но и в городах. Это явление весьма характерно для плановой, зарегулированной экономики. Д.Гэлбрейт, кажется, нечто подобное определил как неприличную возню по поводу дефицита. Нам такая высокомерная позиция не пристала. Нам все прилично. Тем более, что этот рынок является своего рода «приусадебным хозяйством для миллионов горожан».
И конечно, объект воровства — не только предметы производственного назначения. Если воруют материал для строительства хлева, корма для коровы, услугу ветеринара, то почему бы сразу не украсть конечный продукт — молоко?!
И воруют. Крадут все, что производится на колхозных полях и на фермах — кроме разве живого скота. Впрочем, десятками способов исхитряются воровски забивать скотину и тащат мясо.
И сами крадут, и детей посылают.
Я знаю многодетные крестьянские семьи, іде дети начинают воровать с пятилетнего возраста. Да нет, не дети же воруют! Взрослые воруют детскими руками. Скажем, в полном составе семья идет в колхоз работать на току. У каждого в руках по ведру. Наработать — немного наработают, но перед уходом домой ведро смачивается, к влажным стенкам прилипает зерно…
Самый маленький, конечно, не работал, а так, поиграть ходил со старшими, но и его кармашки плотненько набиты зерном — старшие позаботились. Вчетвером, впятером сходили — полведра принесли.
Доярки обучают детей, и те носят молоко с фермы даже в детской посуде. А уж грелка для сельского жителя — идеальный воровской инвентарь: удобнее предмета для кражи молока не сыщешь.
В послевоенные голодные годы, было время, при входе в деревню обыскивали крестьян, возвращавшихся с полей. Я узнал об этом случайно: женщина, с которой я разговаривал на сельской улице, зло плюнула вслед прошедшему мимо человеку. Оказалось, он какое-то время был тут председателем колхоза и лично ощупывал мою знакомую, нашел спрятанные ею в одежде три морковки, которые она несла детям. Нашел и отобрал… Такое не забывают и через тридцать лет.
Но если взрослые воруют, как работают, — то есть получают некий продукт, который иначе не заработаешь, то дети прежде всего получают моральный урок. И сколько бы потом в школе и в обществе ни проповедовали седьмую заповедь, проповедь лишь будет расшатывать цельное мировоззрение, усвоенное на деле во время невинных детских краж. Но, расшатывая, вряд ли даст взамен что-нибудь столь же прочное, как убеждение, что не своруешь — не проживешь.
В предыдущей главе мы, пожалуй, слишком легко проскочили мимо одного очень важного свидетельства медиков, которое здесь уместно привести целиком: «В 15–19 лет в сельской местности, сравнивая с городом, становится заметной более высокая смертность от болезней нервной системы органов чувств (в 2,5 раза), психических расстройств (в 3 раза)… Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы более высокие показатели в городах, нежели в сельской местности» [44].
Может быть, обостренная чувствительность юношеского возраста до трагических размеров усиливает в сознании разрыв между идеалом, проповедуемым ежедневно и ежечасно по всем каналам информации, и реальностью? Может быть, хрупкое юношеское сознание со смертельной остротой осознает ложь, которая еще не понятна ребенку и к которой уже привык взрослый? Увы, на этот счет нет данных, проверенных серьезными исследованиями.
Если человеку приходится ежедневно нарушать общепринятые нравственные нормы, если проповедь, которую он слышит ежедневно, никак не согласуется, да и не может согласоваться с единственно возможным способом поведения, слова или теряют свое императивное значение, или рассекают психику человека, разрушают его личность.
Это, кстати относится ко всему черному рынку в принципе. Все знают, что взятки, спекуляция, воровство безнравственны, но никто не может прожить без взяток, спекуляции, воровства.
И крестьянин прекрасно знает, что воровать — дурно, безнравственно. И ворует.
Крестьянин постоянно слышит, что в советском обществе первая и главная честь — труд. Но его, крестьянина, труд признан общественно нерентабельным настолько, что общество как бы из милости содержит его.
Крестьянин, наконец, слышит, видит в кино и на телеэкране, читает в газетах и журналах, что кругом-то люди живут прекрасно и счастливо (вспомним семью Александровых, которые купили диван-кровать), и в душу закрадывается холодная тоска, мрачное сознание того, что он — неудачник.
Нравственная ценность идеологии, противопоставляющей некое «светлое будущее» сегодняшней жизни общества, сомнительна сама по себе. «Лишение живущего поколения возможности свободно распорядиться своим имуществом и подчинение его воле давно умершего поколения или правам поколения еще не родившегося, делают для него невозможным участие в работе на благо своей страны, убивают в нем интерес к земле, которая в определенном смысле становится для него чужой [45] .
Мысль Сисмонди совершенно справедлива и в тех случаях, когда искусственно ограничивается приложение инициативы и капитала ради «цланового научного ведения хозяйства». Утопические идеи умершего поколения, демагогия якобы в пользу поколений, еще не родившихся, а в результате — равнодушие и нищета поколения нынешнего.
Крестьянин, конечно, не так прост, чтобы целиком и полностью поддаться пропагандистскому угару, — а то бы не выжил, — но и не так крепок сознанием, чтобы не чувствовать зудящего разлада между всеобщей проповедью