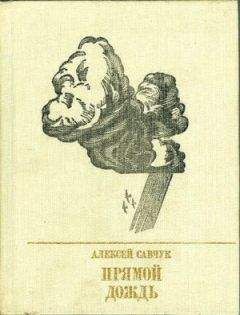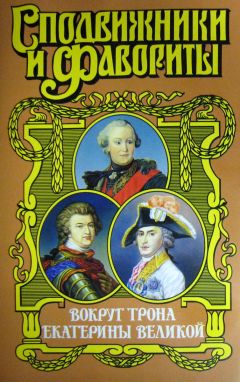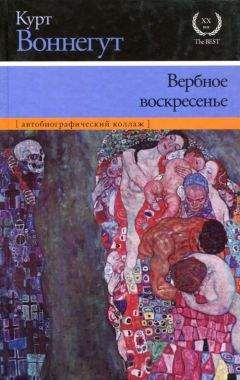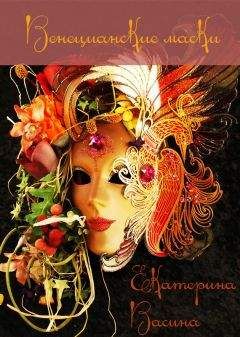— Собирайтесь в участок.
— Зачем?
— Не знаю. Начальство велело…
В участке он застал Самойлова и Бадаева.
Помощник пристава, помятый и заспанный, опираясь локтями на стол, поднял осоловелые глаза и хрипло проговорил:
— Вы мне не нужны. Вызвал для порядка. Можете идти.
Депутаты возмущенно переглянулись и отправились по домам.
В самом начале нового, 1916 года Петровский устроился наконец токарем в мастерскую по ремонту пароходов. Стоял у станка, и металлическая стружка напевала такую знакомую песню. Как хотелось туда, в Екатеринослав, в привычную рабочую среду. Хоть бы от Степана весточку получить.
А тем временем из разных мест Енисейской губернии стали приходить на имя Петровского, Муранова и Бадаева ответы ссыльных на анкету, разосланную депутатами. В неимоверно тяжелых условиях жили политические. Читая и систематизируя анкетные ответы, Петровский делал заметки: кто из ссыльных нуждается в одежде, жилье, провизии и лечении в первую очередь. Когда же из Петрограда от рабочих-металлистов пришел для депутатов денежный перевод на пятьсот рублей, его разделили между семьями Бадаева, Шагова и Самойлова, а он и Муранов, проживающие без семей, от денег отказались и свою часть — двести рублей — разослали политическим ссыльным, которые находились в крайне бедственном положении.
После долгого ожидания пришло письмо от Степана Непийводы. Рассматривая сплошь пронумерованный и проштемпелеванный конверт, Петровский понял: письмо немало блуждало по свету; оно было написано таким эзоповым языком, что полицейские псы, как ни принюхивались, ничего крамольного в нем не нашли. А Петровский, прочитав пустой и наивный текст и хорошенько поразмыслив, расшифровал дружеское послание, наполнившее его сердце счастьем и надеждой. «Работа не прекращается, усиливается борьба против царизма, большевистские ряды крепнут, издаются нелегальные газеты. Рабочие требуют освобождения своих депутатов. Лучи солнца доходят и в окопы», — писал Степан.
Петровский понял: и на фронт долетает правдивое живое слово.
Бурная радость распирала грудь, не терпелось поделиться ею с товарищами. Он направился было к двери, но деревянные ступеньки в это время заскрипели: кто-то поднимался к нему в каморку. Григорий Иванович мгновенно спрятал послание Степана в сапог, а письмо из дома положил на стол. Без стука вошел охранник и бесцеремонно взял письмо. Прочитал, посидел немного и ушел. Григорий Иванович достал из сапога письмо, сунул во внутренний карман дорогую весточку, как сувенир из края, где идет горячая борьба. «Пойду к товарищам, прочитаю, пусть и они порадуются…»
Теперь каждое утро Григорий Иванович спешил в мастерскую. Но вскоре по требованию жандармов его уволили. Это был чувствительный удар. А тут еще грустные письма жены. «Из твоих писем, — писал он Доменике, — слышу крик истомившейся души, молящей о помощи, а я стою на другом берегу реки, глубокой и быстрой. Что же я могу сделать?»
Петровский начал искать новую работу. Его хотели взять на строительство шоссейной дороги, которая должна была соединить Енисейск с золотыми приисками, но исправник потребовал от инженера, чтобы тот присматривал за новым работником.
— В мою обязанность полицейские функции не входят, — возмутился инженер.
С тех пор Григорий Иванович перебивался случайными заработками и с нетерпением ждал Доменику, которая обещала приехать во второй половине июля. В специальном календаре Петровский зачеркивал числа и считал дни, которые остались до приезда жены. Он то боялся, что не получит вовремя от нее телеграммы, то, что разминется с ней в дороге. Ночью вскакивал и бежал к двери — ему казалось, что кто-то стучит.
Предчувствие чего-то дурного в тот вечер не покидало его. Долго стоял у стены, на которой висели недавно присланные из Петрограда фотографии: серьезен и строг Петя в гимназической форме, неузнаваемо изменились Леня и Тонечка. А у Доменики такое усталое, грустное лицо… Он смотрел на детей и с тоской думал: когда же он их увидит? Утешало одно — скоро приедет Доменика! Она расскажет ему про сыновей и дочку, он узнает последние петроградские новости, снова почувствует тепло ее любящего, преданного сердца. Улыбнулся от нахлынувшего радостного чувства. Вдруг услышал какой-то шум. Вскочил: может, Доменика? Шум нарастал, приближался. Заколотили в дверь. Сразу узнал непрошеных гостей. Наскоро оделся, зажег керосиновую лампу, подошел к двери и отодвинул отшлифованную руками железную щеколду.
Вошел знакомый ротмистр — несколько месяцев назад он в этой же комнате делал обыск. Тогда он перевернул все вверх дном, забрал письма, книги. За офицером ввалилось три стражника — один встал у двери, двое бросились к полке с книгами и журналами.
Офицер прямо посреди комнаты уселся на стул. Ему подносили исписанные Петровским листы бумаги, книжки, письма, он читал, кивал головой и складывал все на пол у своих ног. Потом ротмистр встал и подошел к стене, где висели фотографии:
— Это ваша жена?
— Прошу не трогать мою жену, — нахмурился Петровский.
— Пусть будет так, — спокойно, не обидевшись, сказал ротмистр. Поправив очки, он обернулся к Петровскому: — Я никак не могу понять… Ведь у вас, как депутата Думы, были огромные возможности… Вы вращались в высшем обществе, у вас дети, жена, шикарная жизнь…
При словах «шикарная жизнь» Петровский, сам того не замечая, удивленно посмотрел на ротмистра. «Разве он поверит, что я трудно жил, что не водил по балам и салонам жену, что не бросал денег на ветер. Жалованье нам платили приличное, но ведь деньги нужны были для нашего дела. Я проживал с семьей около сорока рублей в месяц, а остальные уходили на нужды партии. Разве ротмистр поймет это?»
А тот продолжал:
— Однажды оступились… Но зачем же тут, в глуши, снова браться за старое? Ну, объясните мне… просто как человек человеку.
— Гм… — ироническая усмешка тронула губы Петровского. — Я не уверен, что это можно объяснить…
— Неужели вы и вправду верите, что малограмотные рабочие и крестьяне способны взять в руки власть и руководить государством? Неужели вам самому не смешно от подобной мысли?
Почти с таким же вопросом к Петровскому уже однажды обратился в Полтаве молодой юрист, а ныне известный прокурор Шуликовский, и Григорию Ивановичу вдруг стало весело.
— Чему вы улыбаетесь? — наклонился вперед ротмистр. — Я что-то не так сказал?
— Да нет, — ответил Петровский. — Просто меня уже об этом спрашивали… И не раз. А понять революционеров вам мешает ограниченность… — Ротмистра передернуло при этих словах, что не ускользнуло от внимания Григория Ивановича. — Не ваша лично, а ограниченность вашей среды. Пролетариат выдвигает таких людей, которые ради достижения цели готовы пожертвовать любым благополучием и даже своей жизнью. Со мной вы можете сделать все, но побороть справедливые народные устремления у вас не хватит сил.