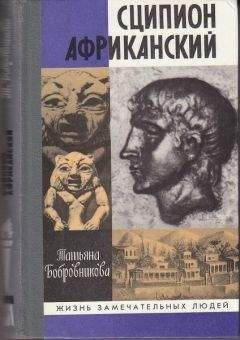Жажда радостей и наслаждений вытеснила из сердца римлян важную строгость. Вновь появившиеся поэты в еще неумелых пламенных стихах стали славить любовь. Один пишет: «Когда я пытаюсь, Памфила, открыть тебе муку своего сердца, виной которой ты, слова замирают у меня на устах. Пот течет по моей несчастной груди, я пылаю желанием. Так я, пылая, молчу и погибаю вдвойне».
«Факел может затушить сила ветра и слепящий дождь, падающий с неба. Но мой огонь, разожженный Венерой, не может погубить ничто, кроме Венеры».[112]
В одной комедии Плавта старик замечает, что сейчас у молодых людей вошло в обычай влюбляться (Plaut. Pseud., 433–435). И действительно, трудно себе представить больших безумцев, больших рабов любви, как они сами себя называют, чем юноши Плавта. Они буквально погибают от страсти. Страдание злополучного Пенфея, разорванного вакханками, ничто по сравнению с муками такого влюбленного (Plaut. Mercat., 470). Он мечется, как в бреду, из дома на улицу и с улицы снова в дом. Он весь пылает. «Если бы не слезы у меня в глазах, — говорит он, — голова загорелась бы» (ibid., 588–590). «На меня обрушился пылающий вулкан бедствий», — восклицает этот несчастный (ibid., 618). Зато счастливцы воспевают свое счастье в самых восторженных и кощунственных, с точки зрения старой морали, выражениях. «Пусть цари владеют царством, богачи — богатством, пусть другие получают почести, пусть воюют, дайте мне владеть ей одной!» — говорит один (Plaut. Curcul., 178–180). «За целым царством я не стал бы гнаться так, как за ее поцелуем!» (ibid., 211). «Я живу только для любви», — говорит другой (Plaut. Mercat., 471–473). «Я бог!» — восклицает счастливый любовник (Plaut. Curcul., 165, ср. Mercat., 604). Недалеко то время, когда Теренций объявит любовь величайшей святыней и все извинит влюбленному.
Веселый шум не утихал даже ночью, даже тьма не приносила спокойствия. По улицам ходили веселые и буйные компании молодежи (Plaut. Amph., 156). У окон красавиц стояли юноши с цветами, пели серенады, осыпали цветами порог,{49} писали на двери любовные стихи (Plaut. Pers., 569; Mercat., 408–410).
Всех охватило страстное желание славы, каждый жаждал успеха, триумфов. Часто бывало теперь, что победитель, которому отказывали в триумфе, устраивал его на свой страх и риск. А так как римляне чуть ли не каждый год одерживали блестящие победы, то зрелище этих шествий начало вызывать у народа равнодушие. «Не дивитесь, зрители, что я не справляю триумфа, — говорит одно лицо у Плавта, — это стало теперь слишком избитой вещью» (Bacch., 1069). Чтобы поразить воображение капризных квиритов, победители старались придать своему въезду как можно больше блеска и необычайности.
Сказать, что Публий Сципион был захвачен всем этим веселым вихрем, значило бы не сказать ничего. Сципион во всем этом блеске задавал тон, все новое исходило, казалось, от Сципиона и имело Сципиона своим знаменем. Это он создал «великое и несокрушимое могущество своего отечества» (Плутарх). Это он стал открыто восхищаться греческим театром, литературой и вообще греческой жизнью. Он, казалось, заразил общество своей радостной уверенностью в счастье Рима, в его великое будущее. В свое время в Сицилии о нем говорили, что он ведет себя не как командующий войском, а как устроитель празднеств. Это было во время войны, в самый тяжелый для Публия момент. Можно ли удивляться, что он так безудержно отдался веселью теперь? Он устраивал блестящие игры и великолепные пиры (Polyb., XVII, 23, 6; Liv., XXXI, 49), со страстью отдался своему давнишнему увлечению театром. Он приближал к себе поэтов,[113] украшал Рим, чтобы тот более походил на прекрасные города Эллады. Публий сделался законодателем мод: подражая ему, юноши стали носить перстни с геммами, кудри (Plin. N.H., XXXVII, 85). Прямо кажется иногда, что этот влюбленный в искусство человек, с кудрями и блестящими кольцами, словно сошел с полотна какого-нибудь мастера эпохи Возрождения.
* * *
Необузданное веселье той эпохи лишь на первый взгляд могло показаться бездумным. Люди того времени жили напряженной внутренней жизнью. Никогда не было еще в Риме такого блеска талантов, такого страстного стремления к знаниям. Один знатный человек, Эмилий Павел, шурин Публия, вызвав лучших греческих наставников, учил своих детей грамматике, философии, риторике, мало того, — рисованию и лепке (Plut. Paul., 6). Два других сенатора, Фабий Пиктор и Цинций, занялись римской историей. Фабий Лабеон и Попилий, оба консуляры, сочиняли стихи (Suet. Terent., 4). Первый настоящий римский оратор Цетег, консул 204 года до н. э., был так красноречив, что восхищенный Энний назвал его «душой богини убеждения» (Cic. Brut., 57–59). Ученейший юрист Секст Элий систематизировал право. Еще во времена Цицерона у всех судей на руках были его записки (Cic. De or., I, 240; Brut., 79). Но всех превзошел Сульпиций Галл, тогда еще юноша (он лет на двадцать пять был моложе Публия). Знатнейшего рода, безукоризненной честности, сенатор и консул, Галл был человеком с изумительно тонким вкусом, наделенный любовью к красоте (Cic. Brut., 78). И вот этот государственный муж сделался страстным астрономом и математиком. «Мы видели, как в своем рвении измерить чуть ли не все небо и землю тратил свои силы Гай Галл, — вспоминает одно лицо у Цицерона. — …Сколько раз рассвет заставал его за вычислениями, к которым он приступал ночью, сколько раз ночь заставала его за занятиями, начатыми утром! Какая для него была радость заранее предсказать нам затмение Солнца или Луны» (Cic. Senect., 49).
Красноречие, юриспруденция, история были детьми той блестящей эпохи.{50} Но, пожалуй, никто из служителей изящных искусств не прославился так, как отец римской поэзии, любимый поэт Цицерона и Лукреция, образец для Вергилия, тот, «кто первым принес с высот Геликона вечнозеленый венец» в Италию, — Квинт Энний (Lucr., I, 117–118).
ОТЕЦ РИМСКОЙ ПОЭЗИИ (ЭННИЙ)
Энний был родом из маленького осского городка Рудии в Южной Италии.[114] Возможно, он был наполовину грек. Во всяком случае он получил греческое воспитание и в его груди, по его словам, билось три сердца — осское, греческое и римское (Gell., XVII, 17). Смолоду он был поклонником изящных искусств и самозабвенно занимался науками. Пуническая война, которая, словно исполинская волна, прокатилась по всей Италии, подняла его с места и забросила далеко от родного городка. В стихах его дышит ужас, который он тогда испытал. Энний рисует Ганнибалову войну в виде ужасного демона: это «исчадие ада, — пишет он, — дева-богатырка в плаще воина; в ней слились ливни, пламя, эфир и тяжкая персть». Она «взломала железные двери и засовы войны» (Enn. Ann., fr. 258–261). Пришлось Эннию оставить дорогие его сердцу науки и пойти простым центурионом в римскую армию.