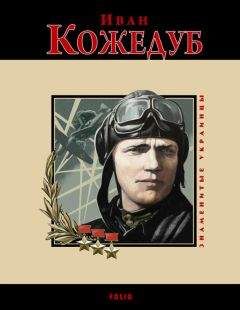И надо же было подойти ей сзади, обнять рукой за шею, а другой подставить мне под губы свой бокал с грузинским «Саперави». «Пей, не зазнавайся. А то вылью за воротник; не посмотрю, что ты бог ленинградского неба. Сегодня я — герой ночного собрания фаворитов жизни. Чтобы красиво умереть, надо уметь жить, милый».
Кровь шарахнула мне в виски, хлестнула по набухшим венам шеи, если не от ее прикосновения, то от ее наглого сопоставления правды двух житейских постулатов. Точнее — совести. Нашла, стерва, мудрость. Я вскочил, опрокинув ее бокал, с треском разлетевшийся на кусочки. Вино хлюпнуло на скатерть, на платье. Стол, само собой, колыхнулся, зазвенел повалившейся посудой, фарфором Мейсена.
Что тут началось? Стерва вопит: «Мой Фаберже!» Полковник с красными лампасами рычит: «На колени, свинья неблагодарная!» А майор-интендант с пунцовыми щечками и заплывшими от жира глазками эдак ехидно ухмыляется: «За черепки платить придется, поганец». Может, и ушел бы я, тихо огрызаясь, без шапки: не до нее, не до поисков гардероба, да уж больно кольнул меня жирный снабженец, Думаю, вот гад. Люди с голоду пухнут, а он за ворованный фаянс печется. Не стерпел, бухнул по ушам: «Вас в окопы нужно загнать, чтоб узнали цену шамовки. А за черепки не бойтесь: заплачу за все, с наваром». И дернул скатерть на себя. Рванулся к серванту с хрусталем. А он руки расставил, как пугало на огороде, и пищит: «Не смей! Вон отсюда, дрянь!» Дама визжит: «Стреляйте в него! Чего испугались хулигана? Он же нас продаст, как миленьких».
Короче, накинулись на меня, как шакалы на добычу. Повисли на плечах, на руках, как шавки дворовые. Повалили, скрутили, еще и по ступенькам спустили. Отлежался. Случайные солдаты помогли руки освободить. Сгоряча зашелся: «Ну, сволочи! Щас вы получите от меня». Хвать за бедро, за карман, а пугалки-то нет: слямзили. Золотой медали тоже не досчитался. С мясом оторвали. Что делать? На поклон идти? Не стал ломать голову. Так и приковылял домой без доспехов. Сам посуди: люди ноги, руки, головы теряют на этой всемирной бойне, а у меня они — при мне. Все это барахлишко: шапка, наган, медаль — дело наживное.
— Не думал, что из-за какого-то Фаберже они дело состряпают.
— Как потом я понял, они испугались, что я их в окопы загоню. Решили избавиться от меня, опасного свидетеля. Спровадить меня подальше от Ленинграда им не удалось, так они сунули меня в Ораниенбаум. Самое гиблое место после Невского пятачка. Страх потерять сытную кормушку победил совесть гомо сапиенс, так, кажется, по-латыни называют разумного человека, — прервал свой рассказ несколько умиротворенный герой потасовки.
— Нет человека, которого бы худая слава миновала. Но с одних она последнюю шкуру снимает, а с тебя — как с гуся вода. Ты опять на белом коне. Кто помог? Адмиралы Балтфлота?
— От них дождешься. Это же евнухи эмоций. Простить они еще иногда могут, а взбунтоваться — никогда. Собственное благополучие для высокого чиновника — превыше всего. Свысока падать больно. Бунтуют те, кому нечего терять. Пролетариат да матросня. Когда меня упекли на «пятачок смерти», братишки прохода не давали: расскажи да расскажи. Я чуть алкашом собственной обиды не стал. Начальство «островка» убоялось, что я морально разложу весь гарнизон своими сентециями о справедливости, и спрятали меня от греха подальше в подземную баталерку боеприпасы выдавать. Братишки не смирились, стали жалобы наверх посылать, мол, сгноить решили Героя, вместо того чтобы воров и хапуг расстрелять.
— Начальство решило: дело пересмотреть. Два раза приплывал ко мне следователь. От него-то я и узнал, что та баба подала на меня заявление в суд, а свидетели пошли у нее на поводочке. «Или мы его, или он нас под трибунал подведет», — твердила она. Те сдрейфили, приложили нужные показания, шапку, пистоль. О Звездочке — ни слова. Кто-то из той кодлы прикарманил. А трибунал — что? Ему не до восстановлении какой-то истины. Вопрос тогда стоял об индивидуальном выживании наравне с общим. Следователи, мне кажется, и во второй раз, при пересмотре моего дела не промахнулись. Знатно поживились, разматывая клубок городских мародеров под крышей тыловых крыс. Так-то, Ваня. Не против — на ТЫ?
— Да я давно уже тебе ТЫкаю, а ты все деликатничаешь, на погоны глядя. Будь здоров, — поднял стопочку Иван, — я рад твоему возвращению в большую авиацию.
— А как же? Жизнь научила. Раз замахнулся на майора: «Ах ты, гадина, тыловая крыса». И схлопотал за тыканье три года условно. Хватит. Ученый. Ходить против власти врукопашную — удел романтиков и дураков.
— Власть, как девка, разная бывает. Совестливая и бесстыжая. К сожалению, — заметил Иван.
Так они и расстались, как старые задушевные друзья в рассуждениях на отвлеченную тему, как будто война была от них за тридевять земель в тридесятом царстве.
А она грохотала над их головами разрывами зенитных снарядов и ревом пикирующих самолетов.
А дела на фронте между тем разворачивались со скоростью ночного бомбардировщика. Ориентиры и цели менялись в зависимости от просветления и скорости соображения главных закоперщиков войны и ведущих исполнителей «божьего промысла».
Обе воюющие стороны считали себя правыми в своих благородных намерениях установить мировой порядок по социально-экономическому признаку. Только одни исповедовали право вершить судьбами народов по принципам Ницше, идеальной голубизне крови, якобы изначально бушующей в жилах великогерманской касты, а другие взяли на вооружение идеи Карла Маркса, положив в основание мирового порядка равенство в материальной обеспеченности, которая тоже изначально заложена в крови плебса. Одни верили в дух, другие поклонялись плоти. Силы идеального и материального мира веками боролись с переменным успехом за свое право управлять человечеством, пока не схлестнулись в итоге на «Прохоровском поле», когда выкормыши Ницше во главе с его лучшим учеником Адольфом Гитлером не выдержали своего наступательного порыва и застряли в оборонительных сооружениях «сталинцев», намертво вставших на защиту своих амбициозных рубежей обустройства мира на принципах материального равенства.
Правда, принципиальная разница в позиции «сталинцев» и «гитлеровцев» оценивалась союзными державами той и другой стороны неоднозначно. Запад во главе с Черчиллем и Рузвельтом защищал материальное благосостояние своих народов в настоящем, а Восток во главе со Сталиным отстаивал свое материальное благополучие в будущем. Так или иначе, но Запад не спешил с открытием второго фронта на западных границах Третьего рейха, поэтому на востоке настоящие сталинцы придумали десять сталинских ударов по гитлеровцам и один из них назвали «Багратион».