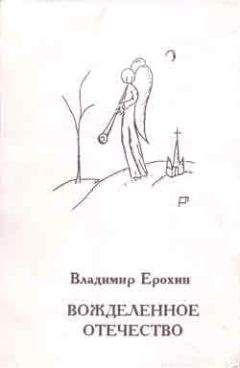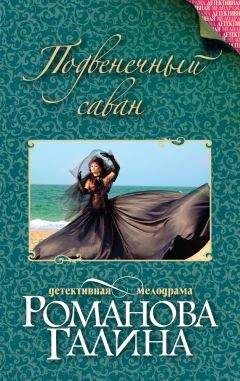Марианна сказала мне, когда мы по телефону гадали об убийцах: "А баба Вера говорит: Господь взял его к Себе".
"И когда вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе ".
И был восхищён на небо (как Илия).
Мише — на жалобу, что нет сил: "Надо жить так, как будто они есть. А когда они кончаются — просто падать". Шёл в час молитвы. "Я был в духе в день воскресный". В час молитвы и был взят на небо (под ручки: Елена Александровна, Елена Семёновна). Здесь остались: Маруся, Вера. "Не рыдай Мене... "
Мария Витальевна, с безошибочностью старого зэка: "Это КГБ".
"И в тот день вы не спросите Меня ни о чем". Отец Александр на нашей кухне. Переполняющее счастье — несчастье от невозможности — полноты: о чем? Нет вопросов. Есть: присутствие, он здесь и убегающее время, ибо он неминуемо уйдёт.
Он дарил часы. И светильники.
Мне — Крест, без головы, в кровавом нимбе. "Ты художница, отреставрируешь". Брату — Усекновенная Глава Иоанна Предтечи на блюде — из икон Елены Семёновны, одна из любимых ею.
Сестра Иоанна (Юлия Николаевна Рейтлингер): первая написанная ею икона — с натуры, со спящего отца Сергия Булгакова: усекновенная глава Иоанна Крестителя. И сама она — "Страстная Иоанна" — пострижение в день Усекновения Главы.
"Разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребий".
Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
Теперь ваше время и власть тьмы.
Пропуск страниц 364-365
…истории — истории последнего, кажется, окончательного падения России.
Погублен человек. Заплёванные, замусоренные тротуары и переходы в метро. Лица алчные и забитые, сиротливо-озлобленные, с печатью непоправимой, с каждым днём нарастающей, страшной беды. Тесно, невыносимо тесно, как в клетке, темно, как в погребе, в России — стране огромной, превращённой в свалку и пустыню. Жить там стало невозможно, невозможно физически. И душа каменела и болью отзывалась на каждое внешнее впечатление.
Безнадёжность — вот чем была для меня Москва, а с ней и вся Россия. И казалось, что желать остаться в ней могли лишь те, кто не может уехать, кто прикован к ней галерной цепью, кто встал в этой ужасной гавани на мёртвый якорь, на прикол. "О Русь! Тоски ночной и зарубежной я не боюсь... " Не боюсь? Боюсь.
Она пришла — ночная (и дневная), зарубежная тоска. Впрочем, в чем разница? Такой же стол, как в Москве (или чуть другой — какая разница?), кухня такая же или чуть иная — чужая. Но жил я и там в чужих домах, не имел своего много лет — и ничего.
Наш дом в Москве последние месяцы клубился людьми — друзьями, какими-то неясными партнёрами в переговорах, посетителями всякого рода. Привычно, как выломанный, щербатый паркет, вызывающе облупленный, распустившийся бутоном штукатурки кухонный потолок, собака и кошка, все наше милое, поднадоевшее житьё-бытьё. И страшно было временами все это утерять — дом, кров, ночлег. И ясно было, что — не удержать, что потеря будет непременно, так или иначе, но она произойдёт.
И мы ринулись в страшную и безоглядную — экспедицию на Запад — бегство — не от себя, а к неизбежности, ускоряя её, как неотвратимость, делавшую невозможными долговременные проекты, срывавшую с места ещё когда было именно это (теперь уже — то) место. Наше место под солнцем, которое, впрочем, редкость (не место, а солнце) в отчаявшейся хоть как-то наладить жизнь, захваченной беженцами и бандитами Москве.
Как странно — говорить о России: "там". Не . манящий, благополучный, глянцевито сверкающий, Запад — "там", а Москва, Россия, вся наша жизнь, — свёрнутая в неряшливый комок воспоминаний, острыми , углами ранящая душу.
Плохого в нашей жизни не было. Страшна была страна, зверевшая от года к году — да так, что и продыху не давала, заполняя все лазейки и траншеи, чтоб никуда не ушёл от неё человек. Россия — ловушка, гигантский магнит, страна инфернальная и безумная, которую нельзя забыть, вычеркнуть из памяти — или можно, но только не мне.
Я тосковал о России, ещё живя в ней. Уже тосковал, зная, что непременно покину её. Я не узнавал своей страны, она как-то неприметно для меня вдруг вся переменилась, словно вывернутая наизнанку, как картина лицом к стене, как вспоротая перина и ветром разносимый чуть алый пух погрома. Она и раньше была шершавым ложем, стала же — сплошной занозистой поверхностью — ни погладить, ни поцеловать — раны, раны в ответ на все — рваные или поверхностно обидные, теснящие душу все глубже внутрь, пока не упёрлась в волевой предел: бежать, чтобы не видеть, не чувствовать каждой клеткой своего существа агонию страны.
Я ощутил как счастье, как спасение — Париж, где можно жить (если позволят) и работать (если дадут), но ты уже другой здесь, и лучше бы совсем, весь переродился. Но тени прошлого встают перед глазами, застилая улицы и кафе, и это — смерть заживо.
Мы словно умерли для той жизни, а в этой ещё не родились. Нам предстоит заново учиться ходить и говорить. Что чувствует душа умершего человека в первые дни? Третий, девятый, сороковой — до которого пока ещё далеко... Что видел и слышал отец Александр Мень, когда мы его хоронили, когда и мною брошенная горсть земли упала в пасть могилы, когда сомкнулась бездна над ним и над нами — бездна горя?
.Торжество зла. Так это начиналось: последнее падение России, убившей свою мудрость и совесть, свою последнюю надежду.
Как безропотно и внешне простодушно служил он ей — все понимая, ненавидимый дураками, спасающий потерянных, изверившихся её сыновей. Он юродствовал, никогда не принимая на свой счёт почестей и похвал. Он был целяще весел и внутренне серьёзен, собран всегда — как водитель машины на скверной, ухабистой дороге — машины с пассажирами, многие из которых к тому же больны. Быть бы ему царём нашим — я только так и понимал монархию — как власть отца Александра — невидимую, посланную нам от Бога. Но слишком велика и страшна страна — как пучина моря.
Я мечтал о море и возле него томился, что не увижу его когда-нибудь — скоро, потому что жизнь протекает в иных, земных и городских, прочно ввязавших в себя местах. И недавно увидел его во сне — страшным, мистически страшным, ужасным и ужасающим — своей чуждостью человеку. Так страшно и одиноко потерпевшему крушение в океане, откуда уже не выбраться никогда. Так страшила меня Россия — клаустрофобией огромных и замкнутых, или готовых сомкнуться пространств.
Она не выпускает. Или не впускает. Или даёт течь или брешь, которую вот-вот залатают тюремщики. И человек вроде меня — вольный духом и болезненно привязанный к прошлому — мечется внутренне», внешне неподвижный: мышеловка захлопнулась? И что будет там, внутри ограды? Гурьбой и гуртом? Под собою яе чуя страны?