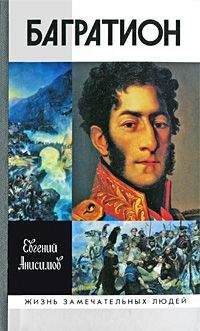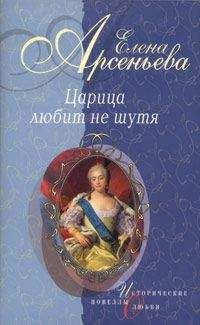Так, в 1738 году вдова лифляндского помещика Ю. К. фон Гогенбах сумела подать императрице челобитную крайне жалобного содержания, и Анна написала: «Ежели подлинно так, как в прошении написано, то учинить по сему челобитью» (речь шла о снятии доимок с имения несчастной вдовицы). В другом случае императрицу настиг челобитчик крестьянин Леонтий Мясников прямо в святая святых — в Петергофе, куда вход всем посторонним был запрещен, и Анна кротко предписала челобитную его рассмотреть, «дабы оной проситель более о том Ея императорское величество не утруждал». Видно, Анна была в этих случаях в благорасположении духа. Иначе было с другой помещицей-просительницей, которая приехала хлопотать в Петербург о задержанном ее супругу жалованье. Она, «долго ища случая», сумела «поймать» императрицу и пыталась подать ей челобитную. Но Анна сурово ее отчитала: «Ведаешь ли, что мне бить челом запрещено?» — и после этого «тотчас велела ее вывесть на площадь и, высекши плетями, денег выдать». «И как ее высекли, — продолжает рассказчик, полковник Давыдов, — то, посадя в карету, хотели везти к рентрее (кассе. — Е. А.), но она, бояся, чтоб еще тамо не высекли, оставя деньги, уехала домой».
Многочисленные челобитчики утомляли императрицу, мешали ее времяпрепровождению, и в 1738 году она, приказав рассмотреть в Сенате дело одного ограбленного родственниками просителя, распорядилась собрать все подобные дела и, разом «рассмотрев, решение учинить, как указы повелевают, чтоб бедным людям справедливость учинена была безволокитно и Ея императорское величество о таких своих обидах больше прошениями не утруждали». В этом можно видеть типичный ход мысли многих правителей России: стоит только рассмотреть «как следует» все собранные в одну кучу жалобы бесчисленных униженных и обиженных, и проблемы решатся сами собой. Но в жизни так не бывает.
Императрица не скрывала своего нежелания заниматься государственными делами и не раз выговаривала кабинет-министрам за то, что они вынуждали ее сидеть за бумагами. 31 июля 1735 года она с обидой писала в Кабинет министров о том, что адмирал Н. Головин беспокоит ее по пустякам, и предупреждала, чтобы впредь «о малых делах Нас трудить было ненадлежало». Хотя для того чтобы нацарапать на пространном докладе Сената или другого учреждения слово «Опробуэца» (иногда — «Апробуэтца», то есть «утверждается»), особых усилий от нее и не требовалось, тем более что под рукой был целый штат советников и помощников, которые «на блюдечке» подносили готовые решения. Отъезд же императрицы в Петергоф вообще избавлял ее от государственных трудов. Так, в июне 1738 года А. Волынский объявил указ, что государыня «изволит шествовать в Петергоф для своего увеселения и покоя, того ради, чтоб Ея императорское величество о делах докладами не утруждать, а все дела им самим решать кабинет-министрам (согласно указу 1735 года. — Е. А.), а которыя дела самыя важнейшия, такия, которых они сами, министры решить не могут, то только о таких Ея императорскому величеству доносить в Петергоф».
Любопытно, что в журнале Кабинета министров употребляется особый оборот, обозначающий доклад у императрицы: «Ходили вверх к Ея величеству…» (чаще писалось: «в Верх»). Это было старинное, идущее с XVII века, бюрократическое и придворное выражение, обозначающее посещение стоящего на холме Кремлевского дворца, в котором жили и решали дела московские цари. (Вспоминается меланхолическая жалоба одного подьячего XVII века: «Придешь в приказ — тащат в Верх, с Верху прибредешь — от челобитчиков докука».) Петровская эпоха утратила этот оборот — никакого «Верха» в старом московском смысле в новой столице не было. Но, как видим, в анненскую эпоху он возродился даже в регулярном Петербурге, очевидно в общем контексте возрождения элементов московской старины. Позже, в эпоху Елизаветы Петровны, оборот этот не встречается, хотя выражение «наверху» и указание пальцем на потолок до сих пор означает начальство.
Дело, конечно, не только в мелочности запросов, с которыми постоянно обращались к государыне чиновники, связанные по рукам и ногам густыми путами бюрократических инструкций. С императрицей вообще было тяжело работать: Артемий Волынский — один из регулярных докладчиков у Анны — дома, в кругу друзей, был грубо-откровенен: «Государыня у нас дура, резолюции от нее не добьешься!» Не стану оспаривать особое мнение кабинет-министра об умственных способностях Анны Иоанновны, но надо быть справедливым — далеко не все дела в ее время погрязали в волоките, многие вопросы решались быстро и оперативно. Так. 28 апреля 1735 года Кабинет министров обсудил и составил на имя московского генерал-губернатора следующее письмо: «Сиятельный граф, превосходительный господин генерал и обер-гофмейстер, наш государь! Ея императорское величество изволила указать мартышку, которую прислал Ланг и в Москве родила, прислать ее и с маленькою мартышкою ко двору Ея императорского величества в Санкт-Петербург. Того ради, изволите, Ваше сиятельство, оных мартышек всех и с маленькою отправить, с кем пристойно, и велеть оных мартышек в пути несть всегда на руках и беречь, чтоб им, а паче маленькой, никакого вреда не учинилось. И о сем объявя, пребываем Вашего сиятельства, нашего государя, покорные слуги». А вот перед нами именной указ об отправке домой, в Воронежскую губернию, и награждении некоей «бабы, которая имеет усы и бороду мужскую». Читатель может быть уверен — доставка новорожденной мартышки и благополучная отправка бабы с усами, равно как и произведенная поимка белой галки в Твери для Ея императорского величества и Кабинета министров Ея императорского величества были делами не менее, а, может быть, даже более важными, чем подготовка армии к войне с турками или сбор недоимок подушной подати.
Особое, исключительное место в системе управления времен Анны занимал ее фаворит Э. И. Бирон, о чем уже сказано выше. Нет сомнения, что ни одно мало-мальски важное назначение на государственные должности не обходилось без одобрения временщика. Он контролировал и Кабинет министров, хотя в какие-то моменты Остерман, пользуясь своей незаменимостью, пытался вести и свою игру. Бирону это, конечно, не нравилось. Он опасался, что вице-канцлер полностью подчинит себе Кабинет министров.
После смерти канцлера Головкина в январе 1734 года в Кабинете остались двое — Остерман и Черкасский, что сразу же нарушило равновесие: бесспорно, что пронырливый Андрей Иванович быстро подмял бы под себя анемичного Алексея Михайловича. Это заставило Бирона задуматься — за вице-канцлером, явно метящим в канцлеры, нужен был глаз да глаз. И тогда Бирон делает следующую рокировку: Черкасского назначают канцлером, а в Кабинет срочно вводят возвращенного из почетной берлинской ссылки Павла Ягужинского. Конечно, твердо полагаться на неуравновешенного Павла Ивановича Бирон не мог, зато мог уверенно рассчитывать, что тот — антипод осторожному Остерману — не позволит вице-канцлеру втайне обделывать свои дела и вредить Бирону.