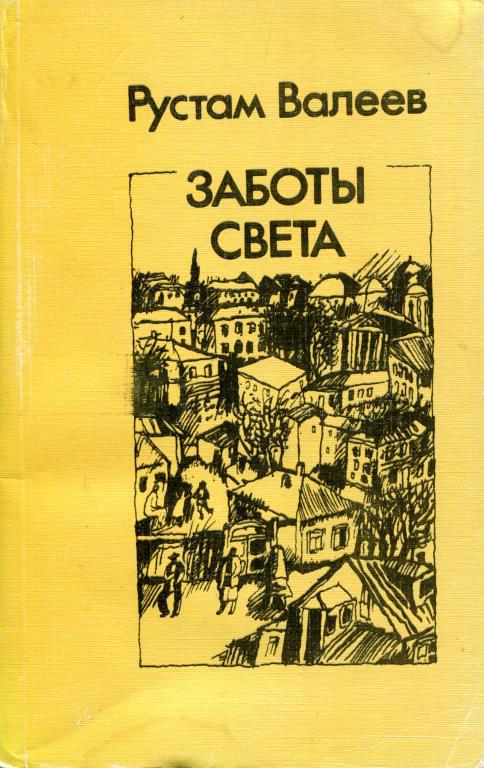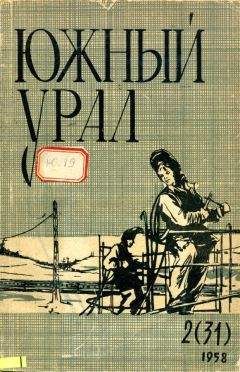половина держится за все старозаветное с наивной надеждой: а нельзя ли все это как-то подновить и приспособить к дальнейшему нашему существованию? Посмотри, что делается! Мы критикуем старое, порой очень жестоко, а потом несем в общий котел благотворительности… вместе со святошами и толстосумами.
— Но благотворительные общества почти единственное, что мы имеем в нашем устройстве и что позволяет нам что-то делать для народа.
— Однако — обман, обман! Все эти толстосумы, в чалмах они или в новомодных фраках, жертвуют только крохи, ибо их бог, собственность, не позволит им честно поделить богатство между всеми. Этого никогда не будет.
— Значит, правы социалисты.
Фатих молчал.
— Пока я не знаю уверенно, чья правда, — сказал он искренне. — Быть может, мы должны пожить еще такой жизнью десяток-другой лет. Пока массы народа не созреют для решительного шага, мы, отдельные его представители, ничего не сможем сделать.
— Но просвещение? Разве мало мы сделали за эти два-три года?
— И просвещению надо еще созреть в полной мере… потом состариться, — он улыбнулся, — одряхлеть и дать место чему-то новому. Для меня вопрос в том, к о г д а на смену просветительству придет то новое.
— Нам придется ждать этого подольше, чем русским.
— Пожалуй. Но было бы наивно думать, что русские в назначенный час возьмутся за преобразование общества, а мы, живущие тоже в России, не окажемся задетыми этой…
— Ты хочешь сказать — бурей?
— Милый мой, прогресс любого человеческого общества определяется активностью его общения с другими сообществами, с другим племенем, с другими народами. Без общения все самое дорогое для нас захиреет и в конце концов погибнет.
Габдулла тихо спросил:
— То, что ты говорил сейчас, и планы вашей газеты…
— Да, — сказал он твердо, — мои планы совпадают с тем, что я говорил. Я признал бы себя человеком нечестным, если бы поступал иначе.
— Ах, Фатих!.. Еще недавно казалось — свобода близка, истинна, а мы сильны, великодушны, богаты талантами, борцами. Я радовался, что есть у нас благороднейший Риза-эфенди с его искренними наставлениями молодежи, есть Дердменд с его изящной поэзией, есть люди, не жалеющие своих богатств на просвещение народа. И каждый виделся мне открытым, искренним, и самому хотелось искренности, полной открытости, ибо казалось, что всяк меня поймет и протянет руку. Но что же теперь? Кричали: «Свобода! Народ!» — а видели перед собой… капитал, проклятый капитал. У нас даже поэт, едва начав свой путь, начинает торговать… Что-то замкнулось в моей душе, Фатих! Прежде, только напишу стихи, бегу ошалелый — прочитать кому-нибудь: слушай, ведь ты мой собрат, ты поймешь меня, поймешь! Казалось, понимали. А нынче стихи мои трогают руками, перебирают, как товар: дай нам, только нам, мы заплатим больше; а этого нам не надо, тут слишком ты резок, непочтителен со столпами нации!.. — Передохнув, он поглядел в спокойные, грустные глаза Фатиха и предложил: — Хочешь послушать мои новые стихи? Только забудь, что ты редактор, я не собираюсь их печатать.
Зачем я обманулся их личиной?
Зачем я им поверил? В чем причина,
Что я, летевший в светлой высоте,
Кажусь летучей мышью в темноте?
. . . . . . . . . . . . . . .
Своим путем я шел бы, как звезда,
К земле не приближаясь никогда;
Вдали от лжи прошел бы одиноко,
Погас бы, наконец, по воле рока.
О, где ты, гордый юности обет?
Не виден мне твой путеводный свет.
Нет воздуха… вздохнуть мне нечем стало.
В пустыне знойной я бреду устало.
Но все ж — крепись, борец! Вперед иди!
И с честью, коль не хватит сил, пади!
(Перевод В. Державина)
Фатих осторожно откинулся в каталке, не потревожив в ней ни звука, и так же осторожно поглядел в лицо Габдулле.
— Без надежды наша жизнь была бы ничтожна, — промолвил он в обыкновенной своей манере говорить так, будто думая о чем-то своем. — Я рад, Габдулла, что нашел в твоих стихах нечто созвучное моей душе.
Когда же Габдулла собрался уходить, он мягко, но решительно попросил выслушать его, предупредив с какою-то болезненной лаской:
— Только прошу тебя: пожалуйста, не горячись. А дело, собственно, в том, что комитет по печати заинтересовался твоими стихами…
— Но я ни одному издательству здесь не предлагал.
— Знаю. Пожалуйста, не горячись и веди себя как ни в чем не бывало. Им кто-то посоветовал перечитать твои прежние публикации: возможно, жандармская администрация. Или кто-то из наших клерикалов написал в комитет… словом, дали читать профессору Кистеневу.
— Почему? Разве он читает?
— Стало быть, читает. Но он по крайней мере в совершенстве знает языки и не допустит превратного толкования. Ну, ты ведь знаешь, он замечательный ориенталист. А какая у него библиотека!..
На Большой Проломной средь бела дня профессор университета Николай Аверьянович Кистенев едва не был раздавлен тройкой неспешно бегущих лошадей. То ли слишком яркий декабрьский снег ослепил профессора, то ли собственные заботы помутили взгляд… на развороте пристяжная лошадь толкнула его потной крепкой грудью и опрокинула навзничь на подтаявший снег мостовой.
Женский пронзительный крик, портфель, скользнувший по гладкой дороге, стук копыт возле самых ушей — все это сильно напугало Николая Аверьяновича, и он, полагая, что это последний проблеск сознания, подумал: «Все, конец… портфель! Какая досада». Сказавши про себя «какая досада», он тут же смекнул, что покривил душой, — не досада, а стыд, страх, ежели заглянут к нему в портфель, желая узнать имя пострадавшего, страх и стыд, ибо портфель был набит рукописями, которые нес он в городскую цензуру. Николай Аверьянович не то чтобы скрывал свои приработки в качестве цензора, но не очень о том распространялся, как-то неловко было даже упоминать об этом.
Кто-то мягко подхватывал его под локоть и почтительно бормотал:
— Не извольте спешить, Николай Аверьянович, потихоньку, так, вот мы и живые. Позвольте стряхну снежочек, та-ак. И портфель тут, да вот же, вот… желаете сами держать?
— Да, — машинально отозвался Кистенев, поправил очки и строго глянул на добровольного помощника. И увидел плутоватую татарскую харю, которая кривилась и морщилась, как будто именно ее стукнуло о твердую мостовую.
Между тем непрошеный спаситель помог ему выйти на тротуар, вместе свернули в проулок и стали, прислонившись к глухой каменной стене обшарпанного дома. Тут профессор еще раз поглядел в лицо человеку и заметил на его скуластых худых щеках бакенбарды. Ишь ты, подумал он с крепкой неприязнью, бакенбардист! И, не сдержавшись, хихикнул,