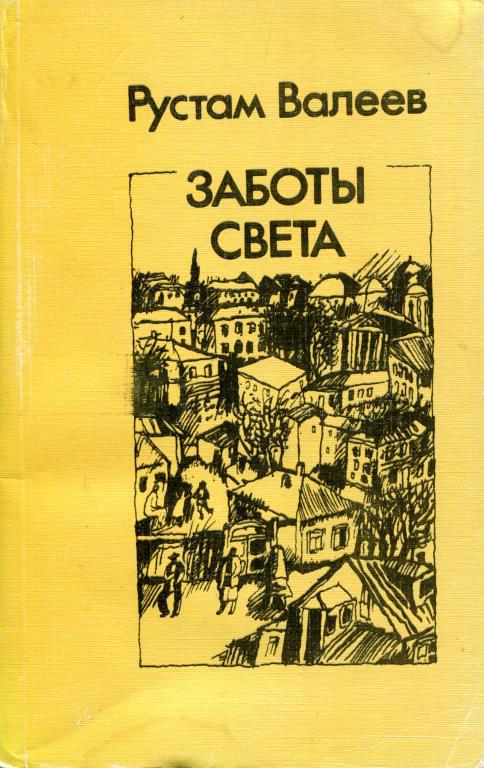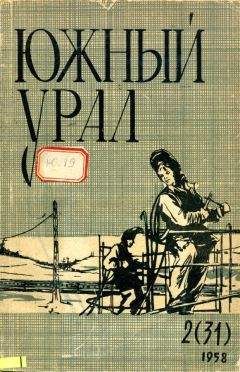все одна только блажь!» — думал Кистенев, уже окончив университет, уже ревнуя ее не к какому-то там литературному герою, а к социалисту Ермолаеву Сергею Степановичу. Отрадно и горько было видеть ее последовательность, убеждаться в неразрывности ее полудетского, наивного и грозного идеала с настоящим. Он так и не смог порвать с нею окончательно. Быть может, сказалась робость души… грустно, с каким утешительным чувством он замечал, как, сменяя пылкость любви, приходит постоянность общения, ставшего привычкой. Он даже послал ей цветы в день их свадьбы.
Вениамин Михайлович Ключников, состарившись и отойдя от дела, передал типографию не сыну, а дочери, что произошло, наверное, под напором Ермолаева. И года не прошло, как Ермолаев, прикупив еще типографию купца Петрова, слил ее с заведением своего тестя и вплоть до ноября 1906 года печатал «Волжский вестник», «Волжский курьер», «Метеор» — издания крайне левые и резкие в непримиримости своей к существующим порядкам. Да если добавить сюда же издания на татарском языке — «Земля и воля», «Когда придет настоящая свобода», «Что такое рабочая партия», «Как собираются и куда расходуются народные деньги», то становилось понятно, что Ермолаевы поступали весьма смело.
И поплатились же за эту свою смелость: указом губернатора Инну и ее мужа выслали из Казани, а типографию закрыли. Обвинялись они в том, что их типография сделалась центром всей революционной прессы, что Ермолаев и его товарищи вели пропаганду среди типографских рабочих, агитировали насчет проведения в Думу представителей революционных партий.
Кроме страха за Инну Кистенев испытывал еще какое-то робкое и очень неопределенное чувство, которое он постарался забыть, но позже понял, что это чувство могло быть и гордостью за нее. «Где она теперь?» — думал он с тоской, которая мешалась с тоской по юности, по сильным ее порывам. Где-нибудь в тобольских лесах, среди снегов, среди грубого и дикого народа, чью жизнь хотела улучшить… Но что из этого получилось? Ничего. Но как же удивлен был Кистенев последующими событиями: работники типографии заявили протест губернатору, ибо он не имел права закрывать типографию, а называя Ермолаевых участниками революционной пропаганды, ссылался на закон, упраздненный манифестом от 17 октября.
Вскоре Инна вернулась в Казань и подала жалобу в сенат о взыскании с губернатора денежной компенсации за простой типографии, добилась открытия типографии. Правда, во главе их печатного заведения был поставлен некто Романовский, коллежский регистратор, который наверняка был ставленником губернатора, а то и жандармерии.
Теперь, как и прежде, Кистенев встречал ее на улице, кланялся. Инна кивала ему приветливо. Была она бледна, очень исхудала, но все еще была красива и волновала его каким-то новым сильным чувством. Однажды он решительно остановил ее и долго с нею разговаривал. Проникаясь нежностью, жалостью к ней, сказал о том, что времена наступают суровые, она женщина, у нее дети; в конце концов, тысячи людей не занимаются политикой, но честно и с пользой делают свое дело.
— Но взять тебя, Николай, — сказала она мягким и ровным тоном. — То, что ты принужден читать татарские издания, разве не политика? Или в отношении к инородцам все мы заодно с Пуришкевичем и миссионерами?
— Но я поступаю честно, я только передаю в точных эквивалентных выражениях суть изданий. А если бы этим делом занимался невежда, то авторам выпадала бы тюрьма или ссылка. Я специалист, хорошо владею языками…
— Бог тебе судья. А я не собираюсь менять ни образа мыслей, ни образа жизни.
Она пошла, и он только тут увидел в руке у нее маленький кувшин: она шла за молоком. И опять почувствовал нежность и жалость. «Она ведь, наверно, нищенствует, бедная, бедная! Я бы не допустил, если бы был ее мужем. Да, я слаб, нерешителен, никакого практицизма, но напрягал бы все свое мужество, все, какие только есть, силы…» В эту минуту он совсем не думал о том, что и теперь напрягает все силы, чтобы только семья его жила небедно.
Еще день-другой он мучился, переживая в себе их последнюю встречу, их разговор; как же несправедлива, резка была Инна, не заслуживал он таких упреков! А там понемногу забылось, а там явился Иманаев, принес рукопись, суетливо разворачивал листы и показывал непотребные места в сочинениях, вид у него был счастливо-злой. И Кистенев думал в изумлении: откуда в нем этакое палаческое возбуждение? От ненависти к своим соплеменникам, от несогласия с ними, от каких-то порочных задатков, заложенных в нем с рождения?
Провожая назойливого посетителя, он заметил потертое пальтецо на нем, покривившиеся башмаки и, краснея, со вздохом подумал: тоже небось семья.
Два раза в неделю Габдулла ходил в дом к Марии Карловне, пожилой обрусевшей немке. Жила она с дочерью, зятем и внуками. Зятя и дочь ее Габдулла так ни разу и не видел, но четверо ее внуков, мал мала меньше, постоянно находились в комнате у бабушки, то крича пронзительными голосами, то затихая и слушая с напряжением немецкие слова, которые произносила их бабушка необыкновенно эффектно, хотя бы даже и простые «дер аффе» и «дер аббе».
Иногда заезжала к старой своей знакомой Фирая-ханум, пичкала ребят сладостями, курила вместе с хозяйкой душистые папиросы, смеялась и шалила, как девочка. В доме у Марии Карловны не было таких порядков, чтобы угощать гостей чаем, и нередко, выйдя от нее, они направлялись в какую-нибудь недорогую харчевню и пили там чай, прикусывая пирожками с луком. Рядом шумно насыщались простолюдины, и с лукавой веселостью Габдулла думал о том, что женщина, вероятно, принимает его за отверженного семьей княжеского сына и многого о нем не знает… Встречались у Фатиха. То, что Фатих относился к Фирае-ханум с открытым дружелюбием, без ухаживания, без лести, вызывало в Габдулле приливы особенной, нежной признательности к нему.
В те дни все в их редакции были приятно взбудоражены стихами, присланными женщиной, фамилии которой никто из пишущих в Казани не знал. Вообще почта бывала обильна — и стихи, и заметки о происшествиях, и всякие житейские истории, — но эти стихи были неожиданны и обнаруживали несомненное благоумие автора.
Рода мужского жемчуг, жемчужина — женского рода,
Отвага и смелость — женского, женского рода!
Только в мужском произносим Аллаха мы имя —
А есть у народов других и Богиня!
— Это великолепно, — заявил Фатих, прочитав стихи. — Тут не мольба, а утверждение своего достоинства, но… через другие понятия, через другое мировоззрение. И незыблемость мужского авторитета ниспровергается через бога.
— По-моему, стихи написал мужчина, — сказал Сагит-эфенди. — Скажу больше: это мистификация, ибо написал их кто-то