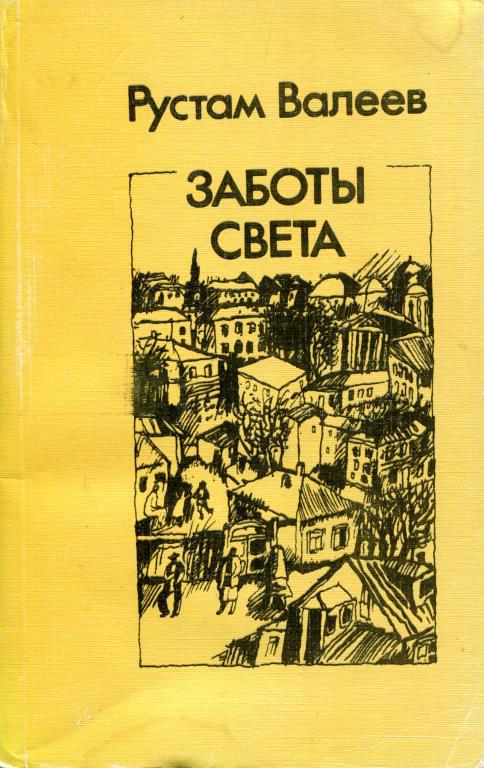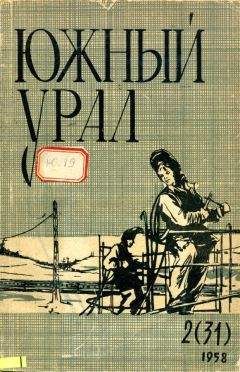распоряжаться собственной судьбой. О, этого не рассказать, нет!
Но рассказать, видимо, хотелось, чтобы вызвать вновь позабытую уже боль, чтобы отчетливей различить черту между прошлым и настоящим. И не нужно никаких советов, никаких утешений, а только молчаливое внимание. И он молчал, слушал.
— Из молодости своей я вынесла одно удивительное, странное ощущение. Я не любила, не могла оставаться одна где-нибудь на улице, в магазине, в саду или в театре. Не то чтобы смущалась или боялась чего-то, я словно теряла себя, свою сущность, как бы забывала, кто же я и как должна себя вести. Но рядом с отцом я приосанивалась, уверенно смотрела вокруг, разговаривала с его знакомыми легко, непринужденно, то же — с братьями, с подругами и знакомыми студентами. Но стоило им отойти и оставить меня одну… я жалко сгибалась, краснела… не знаю, отчего, и если бы в эту минуту кто-то окликнул и спросил, например, чей-то дом или улицу, я не смогла бы толком объяснить. Мне казалось, что одна, сама по себе, я ровным счетом ничего не значу.
Иногда Фирая-ханум просила его рассказать о себе. О себе? Он не умел этого. Никогда. Он мог говорить о чем угодно, с кем угодно, мог терпеливо слушать чью-нибудь исповедь, но говорить о себе не мог. Пожалуй, он боялся, что все это будет выглядеть жалостным, а жалости к себе он не выносил. Иное дело — сестра: она и так все о нем знала, и любила, и жалела его. И сам он любил и жалел ее, и ее судьба на многие годы стала для него мерилом любой женской судьбы. Все, что он узнавал о какой-нибудь женщине, было уже не открытием, а как бы только дополнением к сестриной судьбе.
Селим знал о его связях с женщиной, и это почему-то странно волновало и злило его.
— Мне кажется, она опекает тебя, как ребенка, — говорил он с язвительной улыбкой. — А ты… попроси у нее денег, ведь у тебя нет денег! Не хочешь? Ну и молодец, эти твари, они только и ждут, что кто-нибудь у них поклянчит.
— Успокойся, — отвечал Габдулла, — или я выставлю тебя за дверь.
Тот умолкал, сердито и обиженно сопел.
— С тобой теперь и не поговоришь.
Габдулле жалко становилось юношу.
— Ну почему же, давай поговорим.
— Скажи мне, вот скажи!.. — вскрикивал Селим. — Говорил ли ты себе: я несчастлив, что остался без отца и матери?
— Нет.
— Так я и думал, не такой уж ты дурак! Если подумать, тебе повезло в жизни, да, да! Ведь ты был свободен от опеки, на которую способны только родители. Да, они учат своего несмышленыша, но учат той правде, которую видят они… Жизнь в каждом извращает его истинный взгляд на вещи, извращает чувства и способность мыслить. И вот они с этими своими извращенными чувствами и мыслями принимаются учить тебя…
— Но разве другие не пытаются учить нас тоже?
— Пытаются, — засмеялся Селим. — Но ведь они-то тебя не любят! Ты им чужой, в этом твое счастье. Им на тебя в общем-то наплевать, не то что родному твоему отцу. А почему отцы удерживают детей возле себя? Да потому, что они-то как раз и не хотят для тебя никаких взлетов и удач. То есть… живи с ними бок о бок и добивайся успеха, но чтобы и они могли разделить этот успех. Им — ровно половину, на меньшее они не согласны.
— Но бережность к своему ребенку…
— Хе, волчица кормит волчат отрыжкой только до тех пор, пока не вырастут зубы у ее детенышей. Не разум или что-нибудь другое, а зубы! Вот возьми моего отца. Он хотел учить меня в медресе, потому что и сам учился в медресе. А в реальное не хотел отдавать, потому что сам ни в каких реальных не учился. Ты соображаешь, что тут главное? Они хотят повториться в детях и насильно кроят их по своему образу и подобию. Ты думаешь, отец беспокоился за мою судьбу? Ничуть не бывало! Он боялся, что я проживу свою жизнь иначе, чем он. И общество тоже… чем больше дряхлеет, чем сильней загнивает, тем крепче держится за всю эту гниль и детей своих хочет питать падалью.
— Значит?..
— Надо рвать с ними окончательно. Вот как у тебя, сразу, в младенчестве. Ты, собственно, уже в младенчестве получил ту свободу, которой мы добиваемся до первых седин.
— Но чужие, могут ли они дать всю меру доброты?
— Опять — доброта, доброта! И ты потом деликатничаешь со всякой сволочью, вместо того чтобы уничтожать ее. А все потому, что родители сделали тебя слюнтяем… Война бы, что ли, началась. Нет, нет, война для таких людей, как я, спасение. Во всяком случае, патриотизм очень определенное чувство, тут тебе не придется делить родину на умных и дураков, на богатых и бедных — надо всех защищать. И знаешь, что еще? На войне тебя могут убить. А это не худший способ расплеваться с этим миром.
— Но почему бы не вернуться с войны живым, полным сил, молодости?
— А кому она нужна, наша молодость? Тюремщикам, которые топчут и выпускают из нее кишки? Народу? Да окажись я в деревне тогда… в девятьсот пятом, да укажи на меня кто-нибудь: вот, мол, возмутитель спокойствия, — народ бы в клочья разорвал. Ну, в лучшем случае, обходил бы стороной, как зачумленного. Но вот если бы я приехал разбогатев и кинул бы на благотворительные цели несколько рублей, они бы ошалели от счастья и носили бы меня на руках. И эти-то люди с рабской кровью, по-твоему, народ? Не надо мне такого народа, насмотрелся я на него. Но хотелось бы увидеть, как живут другие… есть ли между нами что-то общее, родственное? Или мы подобны муравьиному рою, например черному, который не дает ходу рыжим муравьям? — Он бледнел и умолкал, потом говорил опять: — Мы так цепко держимся за свое, так охраняем детей наших от всего чужого — значит, боимся чего-то? Но что, что смогли они сделать, все эти сволочи ильминские, все их духовные семинарии? Да ровным счетом ничего. Но чего же мы боимся? То есть я хочу понять, действительно ли вся наша борьба — за лучшую долю простых людей, угнетенных и забитых, или же это какая-то другая борьба? Мне важно знать, я не хочу обманываться… во имя чего все это?
— Ну, а когда ты ходил на демонстрации, ты думал об этом? И что говорили твои друзья?
— Они… они были против несправедливого распределения богатств между людьми.
— Что ж, понятно, разве такая