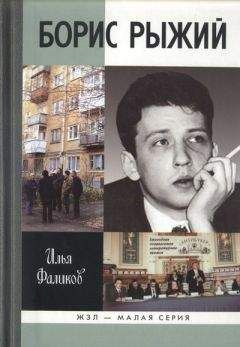Правда, гостей у Р. никогда не кормили, и когда, чуть ли не единственный раз, был подан чай — это запомнилось.
У Р. не пили даже дешевой водки, не ели даже колбасы. За девушками ухаживали мало, хотя две — три подруги хозяйки иногда красиво фигурировали среди гостей. И за ними ухаживали.
У Р. разговаривали.
К чести Жоры — концепций он не любил, предпочитал факты. Постепенно выработался фасон беседы, в которой сообщалось многое, а оценивалось немногое. Объекты разговора преобладали над субъектами, и это всех устраивало. Два или три раза в разгар беседы приходило какое‑нибудь мелкое начальство — то описывать имущество, то требовать выселения с ведомственной жилплощади. Таковые визиты, естественно, способствовали сдержанности и хозяев, и гостей. Говорили о многом и многое, но не обобщали. Объективничали, без всяких объяснений понимая, что так все будут целее. В итоге все посетители остались целы, и единственное, если не ошибаюсь, исчезновение — Миши Вершинина — произошло уже в новое время и имело свои гласные и объяснимые причины.
Среди частых посетителей помню Эрика и Эдика. Они же были главными женихами для подруг хозяйки. Эрик был молодым талантливым конструктором. Эдик был молодым талантливым нейрохирургом. Вообще подразумевалось, что в дом ходят талантливые люди. Или же интересные, странные. Таких тоже приглашали.
Эрик был маленький, лысенький и молчаливый. Фамилия его была Блох. Р. сокрушенно рассказывал, что его тесть, академик, именовал свою новую родню — «мои блохи».
Молчаливость объяснялась засекреченностью Эрика, и никто не пытался разговорить его касательно рода деятельности.
Эдик был высокий, авантажный, как мастер художественного слова, держался уверенно. О мозгах, которые он резал (среди них был и мозг Гудзенко), рассказывал охотно и интересно. Он в самом деле был талантлив, и вышел из него крупный врач.
Эрик и Эдик были одеты в пиджачные тройки и выглядели нормально питающимися людьми.
Гавронский, которого я видел всего два — три раза, был одет в обноски и никак не обихожен, но он был гипнотизер, кажется даже профессиональный. Он был отпрыск известной московской семьи, как я потом понял — эсеровской. Его приглашали охотно как интересного человека.
Другой странный человек был по роду занятий фотограф, а по сердечной склонности — джиу — джитсер. Была у него еще одна сердечная склонность — молодая и привлекательная женщина, проживавшая в той же коммунальной квартире. Понизив голос (он это делал часто), Р. рассказывал мне, что однажды, обнаружив, что у него есть соперник, джиу — джитсер уединился с ним в одной из комнат и мучил несколько часов, по правилам своей японской науки, до полной капитуляции.
В квартире на Телеграфном переулке происходило и не такое. И такое тоже происходило там, наверное.
Однако самое время порассказать о хозяйках салона — молодой и старой.
«Я знаю, что вы обо мне говорите, — сообщила мне как‑то Софья Израилевна, — что у меня характер, как у Тома Сойера».
Я говорил о ней и похуже, называл ее старуха — шалопай. Но С. И. была незлопамятна.
Вообразите маленькую, пухленькую, неряшливую шестидесятилетнюю [старушку], впоследствии ставшую на моих глазах семидесятилетней, не утратив ни бойкости, ни вздорности.
Лицо у нее было озабоченное, суматошное. С. И. была всегда занята, всегда на ходу, всегда у телефона, считалось, что она дает уроки фортепьяно. Может быть, она давала и уроки. Кроме того, день — деньской С. И. бегала по всяким странным и сомнительным делам. И ежели водится еще «человек воздуха», то она была «старухой воздуха».
«Слуцкий, — позвонила она мне однажды, — есть невеста для вас. Хотите жениться?» — «А площадь у невесты есть?» — справился я, ибо в ту пору (дело было, наверное, в 1952 году) первой ступенью лестницы потребностей была у меня как раз площадь. «Площади нет, но зато ребенок есть. От Героя Советского Союза».
На таком деловом уровне финтила С. И. свои финты — что- то продавала, что‑то покупала, что‑то устраивала.
Вечерами С. И. играла в покер и, поскольку партнеры ее были умнее ее и опытнее, часто проигрывала, немалые притом суммы.
Возвращаясь домой, старуха придумывала поспешную версию — например, грабитель вынул деньги из сумочки — тут же, только что, в нашем же подъезде, и, заметив недоверие сына и невестки, недоверие с добрым отчаянием, — ложилась на пол и бестолково имитировала истерику…
Старухи в Переделкине — их там всегда не менее половины наличного состава — с каждым годом старятся все скорее — на год, на два, на три — за год. Вот они еще бегают по аллеям, как Нора Галь с ее офицерской выправкой. А вот уже семенит, держась за стенку, в франтоватых своих, импортных, стеганых халатиках Инбер Вера Михайловна.
Я с ней встречаюсь редко, раз в десятилетие.
В Италии, в 1957 году, Заболоцкий называл ее Сухофрукт. Была подтянута, стяжательствовала по магазинам. Во Флоренции в галерее Уффици неожиданно прочитала нам лекцию о Боттичелли — о нем писал ее первый муж Инбер (с ударением на втором слоге). Лет через пять в Болгарии, куда она поехала сразу же после смерти единственной дочери, тоже скупала кофточки и неоднократно с кокетливой гордостью читала эпиграмму тридцатых годов:
У Инбер нежное сопрано
И робкий жест.
Но эта тихая Диана
И тигра съест.
(Три эпитета я, наверное, напутал.)
Читала с гордостью, а может быть, и с угрозой.
Однако другая старуха, болгарская поэтесса Дора Габе, делившая с ней гостиничный номер во время поездки нашей делегации по стране, рассказывала, что Инбер во сне кричит и плачет.
И вот 1970 год. Август. Инбер 80 лет. Она хвастается телеграммами, но — вяло. Со мной шушукается.
Все спрашивают, не выжила ли она из ума, не поглупела ли.
Я искренне отвечаю, что нет.
Она — в уме, в том уме, не малом и не большом, в котором прожила всю жизнь.
Она спрашивает у меня: «Слуцкий, что вы такой мрачный? У вас все в порядке?»
И, выслушав ответ, убежденно говорит: «У меня все в порядке. У меня всегда все в порядке».
И действительно, у нее все в порядке — как почти всю жизнь. Как у дерева, у которого ветки отсохли раньше, чем корни. Теперь отсохли уже корни. Держится оно… непонятно на чем. Может быть, на воле? Но на воле долго не держатся..
История моих квартир и квартирохозяек
Историю моих квартирохозяек хочется почему‑то начать с почти единственного среди них мужчины — Андрея Гаврилыча Чарского.