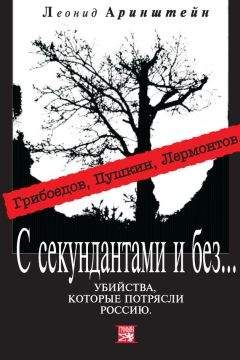Нет, что-то не так! Почему же арестованные Лермонтов и Раевский не воспользовались на допросах своей, можно было бы сказать, остроумной уловкой, не попросили для себя снисхождения, а словно бы забыли о спасительных строках? Не потому ли, что им-то было ясно, как мало в них «спасительного»?!
Отсутствие эпиграфа в копии Верещагиной, мне думается, немногое объясняет. Стихи распространялись в два периода, достаточно вспомнить слова А. И. Тургенева. Не имел эпиграфа и список С. Н. Карамзиной.
Если же говорить о копии Одоевского, то она была самоцензурной. Одоевский надеялся напечатать «Смерть поэта» и, конечно, как опытный журналист, никогда бы не стал предлагать цензуре последний вариант. Впрочем, и предложенный элегический текст не был допущен к печати.
Вряд ли можно согласиться с мнением, что Лермонтов, использовав эпиграф как «уловку», рассчитывал на круг читателей, связанных с двором.
Распространение стихов — акт неуправляемый, он не зависит от воли автора. Стихотворение куда больше переписывалось демократическим читателем, чиновниками и студентами. Если же говорить о дворе, то именно там стихотворение Лермонтова было названо «воззванием к революции».
Но может быть, у нас недостаточно фактов, чтобы объяснить стихотворение «Смерть поэта»? Может, нам неизвестны какие-то обстоятельства, заставившие Лермонтова все же не только написать шестнадцать заключительных строк, но и прибегнуть к эпиграфу?
Попробуем еще раз остановиться на споре Лермонтова с камер-юнкером Н. А. Столыпиным, принесшим в дом поэта отголоски великосветских разговоров…
Итак, 29 января Лермонтов пишет пятьдесят шесть скорбных строк, кончающихся словами:
…Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
Печать — символ вечного молчания… «Остановился златоуст» — словно бы о Пушкине толкует словарь В. Даля.
Призыва к возмездию еще нет, есть безысходное горе. 29 января Лермонтов пишет то же, что пишут многие из его современников в стихах и в письмах.
Приведу письмо Павла Бестужева брату от 2 февраля 1837 года.
«Любезный Александр!
Сообщу для тебя неприятную новость: вчера мы похоронили Александра Пушкина. Он дрался на дуэли и умер от раны. Некто г-н Дантес, француз, экс-паж герцогини Беррийской, облагодетельствованный нашим правительством, служивший в кавалергардах, был принят везде с русским радушием и за нашу хлеб-соль и гостеприимство заплатил убийством.
Надо быть бездушным французом, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь поэта, которую иногда щадит сама судьба, жизнь, принадлежащая целому народу. <…>
Пушкин сделал ошибку, женившись, потому что остался в этом омуте большого света. Поэты с их призванием не могут жить в параллель с обществом, они так не созданы. Им нужно сотворить себе новый парнас для жительства. Иначе они наткнутся на пулю, как Пушкин и Грибоедов, или того еще хуже, на насмешку!!»
Общность содержания удивительна, иногда возникают одни и те же слова и определения.
БЕСТУЖЕВ: «Надо быть бездушным французом, чтобы поднять святотатственную руку на неприкосновенную жизнь поэта…»
ЛЕРМОНТОВ: «Его убийца хладнокровно Навел удар… спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет».
БЕСТУЖЕВ: «<…> жизнь поэта, <…> жизнь, принадлежащая целому народу».
ЛЕРМОНТОВ: «Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы, Не мог понять в сей миг кровавый, На что он руку поднимал!..»
БЕСТУЖЕВ: «Поэты с их призванием не могут жить в параллель с обществом <…>. Иначе они наткнутся на пулю <…> или, хуже того, на насмешку!»
ЛЕРМОНТОВ: «Отравлены его последние мгновенья Коварным шепотом насмешливых невежд…», «И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар».
Элегия до появления прибавленных строк отражала те общие разговоры, которые возникали повсюду в дни гибели Пушкина.
Но через несколько дней «песня печали», как назовет «Смерть поэта» Нестор Котляревский, превратится в «песнь гнева».
Лермонтова и Раевского арестовывают. В тюрьме они пишут подробные «объяснения».
Большинство исследователей считают «объяснения» Лермонтова и Раевского искренними, другие хотя и подтверждают искренность, но все же видят в них «самозащиту».
Но если арестованный преследовал защитные цели, он должен был думать о том, как бы не дать противнику опасных для себя фактов. И уже осторожность сама по себе исключала искренность. Да и какая искренность в когтях полиции? И Лермонтов, и Раевский понимали, что каждое искренное их слово утяжелит наказание, ожесточит приговор. Записка Раевского камердинеру Лермонтова требует от Лермонтова не доверяться чувству, не быть искренним.
«Андрей Иванович! — обращался Раевский к камердинеру Лермонтова. — Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал Министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже».
Сравним тексты «объяснений» Лермонтова и Раевского.
Лермонтов:
«Я был болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли мне ее обезображенную разными прибавлениями, одни, приверженцы нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, вынужден был сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противников Пушкина, называли его (Дантеса. — С. Л.) благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее… Не имея, может быть, возможности защитить нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения.
Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого: и врожденное чувство в душе неопытной, защищать всякого невинно осуждаемого, зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнию раздраженных нерв. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях они восстают так громко против убитого, — мне отвечали: вероятно, чтобы придать себе больше весу, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился — надо мной смеялись. Наконец после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер; вместе с этим известием пришло другое, утешительное для сердца русского: Государь Император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность Его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила еще более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства Императора, Богом данного защитника всем угнетенным, но тем не менее я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них предназначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредным (как и прежде мыслил и ныне мыслю) для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя бы объяснением, ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка…»