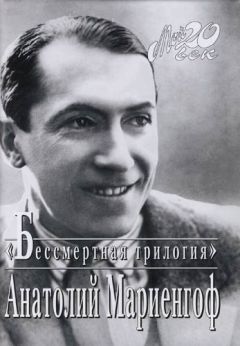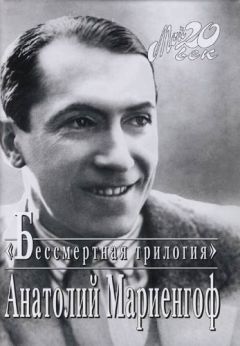Маленький умный человечек схватил со стола вилку и всадил ее в котлету.
— Если хочешь кушать, Эмиль, сядь за стол! — сказала толстенькая. — Нельзя всю жизнь обедать, расхаживая по комнате с вилкой в кулаке.
Он опять не услышал ее слов.
— Что такое сплетня, Эмиль? — спросил я. — Ведь вся литература, по существу, сплетня. Толстой сплетничал про Анну Каренину, Достоевский про Настасью Филипповну, мы с вами про Веронику Витольдовну и Маяковского.
Задумчиво кивая головой, Эмиль откусывал кусок за куском от остывшей обугленной котлеты. А вилку он держал в кулачке, как железнодорожная сторожиха свою желтую палку.
— Согласны со мной, Эмиль?
— Почти, — меланхолически ответил он.
И положил вилку на круглый столик, что стоял перед тахтой, под сенью оранжевого абажура с золотой бахромой.
— В таком случае, Эмиль, будем продолжать. Полчаса тому назад мне рассказывал Качалов: сегодня Вероника Полонская опоздала на репетицию к Литовцевой. Та, конечно, накинулась на нее с криком: «Безобразие! Распущенность! Возмутительно!» Полонская стала оправдываться: «Простите, Нина Николаевна. Только что застрелился Маяковский. Я прямо оттуда». И актриса осталась репетировать.
Кроткий взглянул на меня вытаращенными близорукими глазами и вдруг, по-женски всхлипнув, упал на тахту, носом в шелковую подушку, вышитую хризантемами.
Он еще со времен аверченковского «Сатирикона» знал Маяковского и, оказывается, очень любил его. Но хорошее чувство было тщательно спрятано под вечной иронией, этой неотвязчивой спутницей нашей среды.
Вероника Витольдовна Полонская вскорости развелась с мужем.
— Прелестно! — как-то сказал мне Кроткий. — Перед Маяковским Вероника Витольдовна устояла, а «воротничкам» сдалась.
Эти поэты из сатирических журналов все знают.
— Каким «воротничкам», Эмиль?
— Так называют в редакции ее нового мужа. Он, по слухам, бойко торгует в Столешниковом переулке воротничками собственного изделия. Да еще сто тысяч по займу выиграл. А ведь это делает человека неотразимо привлекательным в глазах женщины.
— О-о!.. Я уж давно заметил, Эмиль, что деньги — это не только прозаический расчет, но и секс.
Мой малюсенький собеседник оглянулся, нет ли супруги поблизости, и мечтательно вздохнул:
— Вот бы и мне сто тысяч выиграть!
Ему, как и всем нам, очень хотелось быть Дон Жуаном.
Эмиль Кроткий являлся блестящим эпиграммистом в пушкинской манере.
К примеру:
Он, убоясь последствий вредных,
Переменил на прозу стих, —
Вольтер для глупых, Франс для бедных
И Эренбург для остальных.
А толстенькая Лика Стырская пописывала стишки в таком роде:
У меня распущенные косы
И прехитрые цыганские глаза.
Я курю чужие папиросы
И в делах не смыслю ни аза.
Я не слишком люблю цитировать. Но когда сам мало знаешь, это бывает необходимо.
Начну с коротких выписок из стихотворения Маяковского, о котором в то время мы и понятия не имели:
Ты одна мне ростом вровень,
Стань же рядом, с бровью брови…
Дальше:
Иди сюда, иди на перекресток
Моих больших и неуклюжих рук…
И еще:
Я все равно тебя когда-нибудь возьму,
одну, или вдвоем с Парижем.
Стихотворение написано в ноябре 1928 года.
Ей было восемнадцать лет. Она жила, как вы уже поняли, в Париже. По словам Якобсона, друга Маяковского, Владимир Владимирович познакомился с ней в «докторской квартире».
Еще стихи. И даже «в изящном стиле». Так названы они автором.
Мы посылаем эти розы
Вам, чтоб жизнь казалась в свете розовом.
Увянут розы… А затем мы
к стопам повергнем хризантемы.
Маркиз Якобсон сухо объясняет: «Уезжая из Парижа в Москву в начале декабря 1928 года, Маяковский принял меры, чтобы парижская оранжерея еженедельно посылала цветы…»
Дальше:
Дарю моей мои тома я.
Им заменять меня до мая.
А почему бы не до марта?
Мешает календарь и карта
Это написано на первом томе «Собрания сочинений», только что вышедшем в Москве.
Дальше:
Второй. Надеюсь, третий том
снесем собственноручно в дом
А на четвертом томе со стихами гражданской войны:
Со смыслом книга,
Да над ней
Клониться ль Тане кареокой…
И т. д.
Из Москвы Маяковский пишет ей:
«Письма такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому телеграммлю. Телеграфь, шли письма — вороха того и другого».
А в январе двадцать девятого:
«Твои строки — это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная»
«Сижу сиднем из боязни хоть на час опоздать с чтением твоих писем. Работать и ждать тебя — это единственная моя радость»
И — телеграммы, телеграммы, телеграммы:
«Очень затосковал»;
«Тоскую невероятно»;
«Абсолютно скучаю»;
«Тоскую по тебе совсем небывало»;
«По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а еще чаще».
И — опять же с образцовой профессорской сухостью Якобсон доводит до нашего сведения: в октябре человек «получит из Парижа письмо бесповоротно прощальное».
Дальше:
«Несколько месяцев пройдет, и жизнь поэта оборвется прежде, чем в Париже узнают от приезжих из Москвы, что в разрешении на визу за границу Маяковскому было в сентябре наотрез отказано».
Все.
Какая же «любовная лодка» разбилась? Явно их было две. А возможно — три.
Да и только ли разбились любовные лодки?
И все же выстрела Маяковского я не понимаю.
Не понимаю теперь. И не понимал тогда.
Иду по Невскому. День ясный. Прыгают воробьи. Так дошкольницы прыгают, играя в «классы».
Длинный золотой палец Адмиралтейства показывает путь в небо. А мне сегодня и на земле неплохо: только что я купил для своего Кирилки прелестную сучку-пойнтера. Какие уши! При насморке они вполне могут заменять ей носовые платки. Какой смеющийся, болтливый хвост! Прошу прощенья, собачники говорят не «хвост», а «прут».
Провозившись с сучкой часа два, я ее удочерил в своем сердце.
Хорошее отношение к собаке невольно перешло и на людей: улыбаюсь первым встречным. Они, вероятно, думают: «Не иначе, как по займу, подлец, выиграл!» Ведь у нас слово «подлец» почти ласковое.