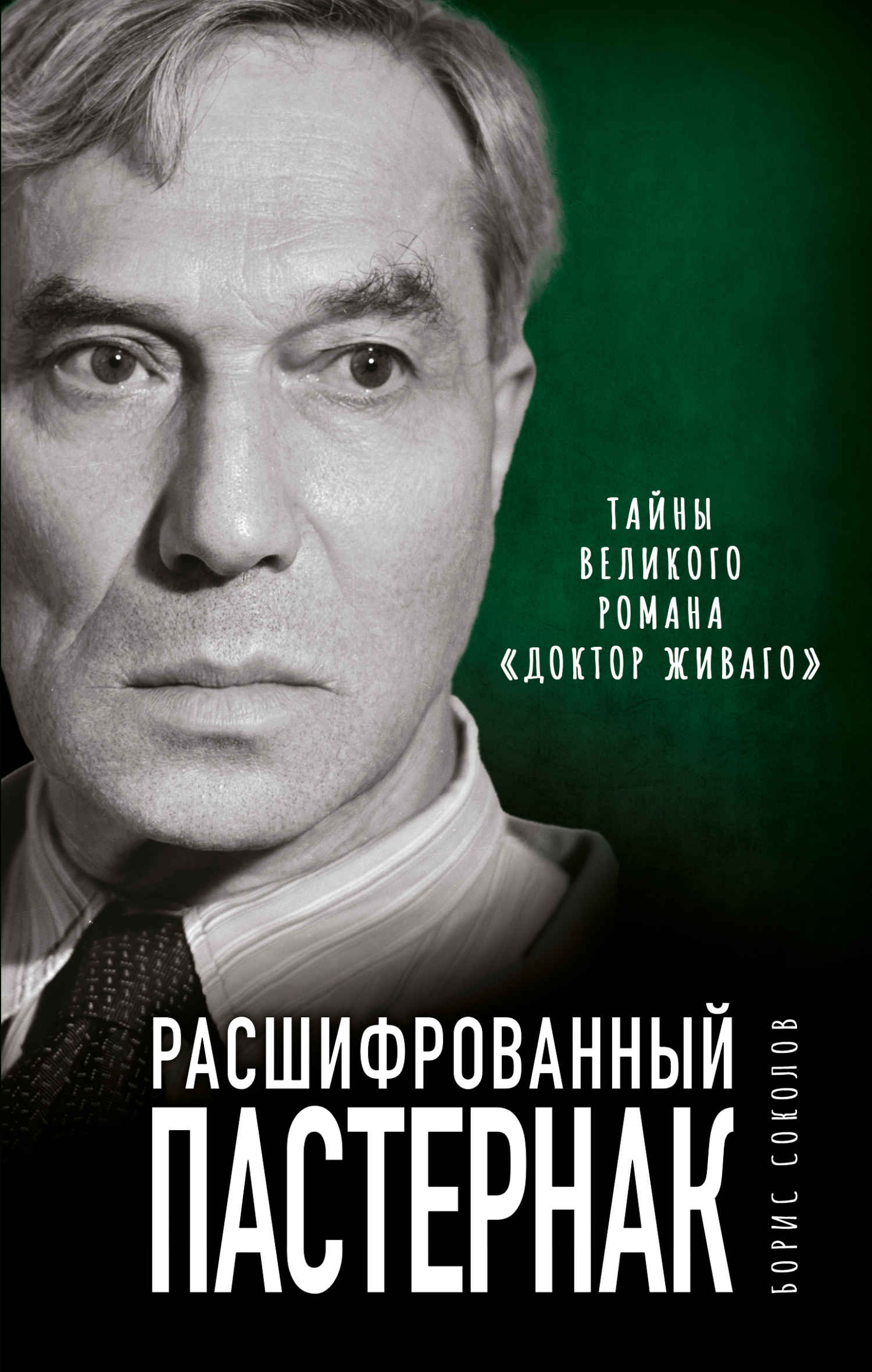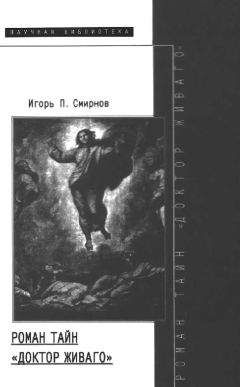письме Б [ориса] Л [еонидовича] к Хрущеву, но на это не хватало ни ума, ни элементарной гуманности. И все началось заново. Боря тут же сел за стол и написал проект письма в «Правду». Он писал, что по его разумению Нобелевская премия должна была бы быть гордостью его народа, и если он от нее отказался, то не потому, что считает себя виновным или испугался за себя лично, а только лишь под давлением близких и боязнью за них. Письмо было заведомо неприемлемо для Поликарпова.
Пошла я на следующий день с проектом письма, написанного Борей, в ЦК. Как и следовало ожидать, Поликарпов сказал, что мы с ним будем «сами работать над этим письмом». Это была работа завзятых фальсификаторов. Мы брали отдельные фразы Б [ориса] Л[еонидовича], написанные или сказанные им в разное время и по разному поводу, соединяли их вместе. Вырванные из контекста, они не отражали общего хода мысли Б. Л. Белое становилось черным. Но здесь же была выдана плата: Поликарпов твердым голосом заявил, что выручит нас в переиздании «Фауста», и обещал снять вето с Бори и меня в «Гослитиздате», так что нас будут снабжать переводческой работой.
Когда я тут же пришла к Боре с новым вариантом письма, в котором были почти все его слова, но совсем не было его мысли, - он только рукой махнул. Он устал. Ему хотелось покончить с этим исключительным положением».
Но Поликарпову не нужны были такие советы. В текстах использованы ранее написанное письмо Пастернака
Фурцевой и некоторые пункты его письма в президиум правления Союза писателей. Но перевешивают казенные формулы чиновного образца. Может быть, было бы лучше, если бы Пастернак не старался их приспособить для выражения своих мыслей. Чужое авторство он вынужденно прикрывал своим стилем и, вписывая требуемые слова, добавлял от себя...»
Ольга Ивинская делает общий вывод:«... Не захотел Б.Л. уехать на Запад, оставив всех нас заложниками на родной «Голгофе».
Вот он и подписал принесенные мною письма. И легко подписал, так как нисколько не сомневался в своей конечной победе. Ибо он понимал самое главное: ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО - книга написана, издана, читалась не столько страной, сколько - миром, «Живаго» совершал свой «космический рейс» (выражение БЛ.) вокруг планеты. И кроме того - тогда уже ему была ясна истина, ставшая теперь очевидной почти всякому: эти письма ничего не испортят, кроме репутации тех, кто его к ним принудил. Сам он об этом очень четко и недвусмысленно позже записал: «когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления.». Так оно и было».
Ход встречи с Поликарповым 31 октября известен нам по мемуарам Ольги Ивинской: «Поликарпов откашлялся, торжественно встал и голосом глашатая на площади возвестил, что в ответ на письмо к Хрущеву Пастернаку позволяется остаться на родине. Теперь, мол, его личное дело, как он будет мириться со своим народом.
- Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, - заявил при этом Поликарпов. - Мы, например, просто не можем остановить завтрашний номер «Литературной газеты.».
- Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич? - перебил его Боря. - Какой там гнев? Ведь в вас даже что-то человеческое есть, так что же вы лепите такие трафаретные фразы? «Народ!», «народ!» - как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово - народ.
Бедный Дмитрий Алексеевич шумно набрал воздуху в грудь, походил по кабинету, и, вооружившись терпением, снова подступился к Боре.
- Ну, теперь все кончено, теперь будем мириться, потихонечку все наладится, Борис Леонидович... - А потом вдруг дружески похлопал его по плечу. - Эх, старик, старик, заварил ты кашу.
Но Боря, разозлившись, что при мне его назвали стариком (а он себя чувствовал молодым и здоровым, да к тому же еще героем дня), сердито сбросил руку со своего плеча:
- Пожалуйста, вы эту песню бросьте, так со мной разговаривать нельзя.
Но Поликарпов не сразу сошел с неверно взятого им тона:
- Эх, вонзил нож в спину России, вот теперь улаживай. (опять этот пресловутый нож, почти как «и примкнувший к ним Шепилов»).
Боря вскочил:
- Извольте взять свои слова назад, я больше разговаривать с вами не буду, - и рывком пошел к двери. Поликарпов послал мне отчаянный взгляд:
- Задержите, задержите его, Ольга Всеволодовна!
- Вы его будете травить, а я буду его держать? - ответила я не без злорадства. - Возьмите свои слова назад!
- Беру, беру, - испуганно забормотал Поликарпов.
В дверях Б. Л. замедлил шаги, я вернула его, разговор продолжался в другом тоне.
У выхода, попрощавшись с Б.Л., Поликарпов задержал меня:
- Я должен буду вас скоро найти; недели две мы будем спокойны, но потом, очевидно, еще раз придется писать какое-то обращение от имени Бориса Леонидовича. Мы с вами сами его выработаем вот в этих стенах; но это будет после октябрьских праздников, проводите их спокойно. Сознайтесь, у вас тоже упала гора с плеч?
- Ох, не знаю, - отвечала я.
- Вот видишь, Лелюша, - говорил Боря, спускаясь по лестнице, - как они не умеют... вот им бы сейчас руки распахнуть, и совсем было бы по-другому, но они не умеют, они все крохоборствуют, боятся передать, в этом их основная ошибка. Им бы сейчас поговорить со мной по-человечески. Но у них нет чувств. Они не люди, они машины. Видишь, какие это страшные стены, и все тут как заведенные автоматы. А все-таки я заставил их побеспокоиться, они свое получили!»
«Очень тяжелое для меня время, - писал Пастернак 11 ноября 1958 года своей двоюродной сестре М.А. Марковой. - Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя руки». А 28 ноября сообщал Жаклин де Пруаяр: «Что до предосторожности в отношении меня самого, я скажу Вам вот что. То, что со мной случилось и что без моего ведома, на недоступном расстоянии чудесным образом управляет моим существованием, - так широко и безмерно выше меня, что любой шаг, любой поступок, даже безотчетный, который сделаете Вы или совершу я, теряется бесследно. Когда в моем положении я получаю столько писем из-за границы, со всех концов земли (однажды, например, их было 54 за один раз), писать мне обычной почтой или не писать, не составляет почти никакой разницы. Пусть мне пишут. Я думаю, что