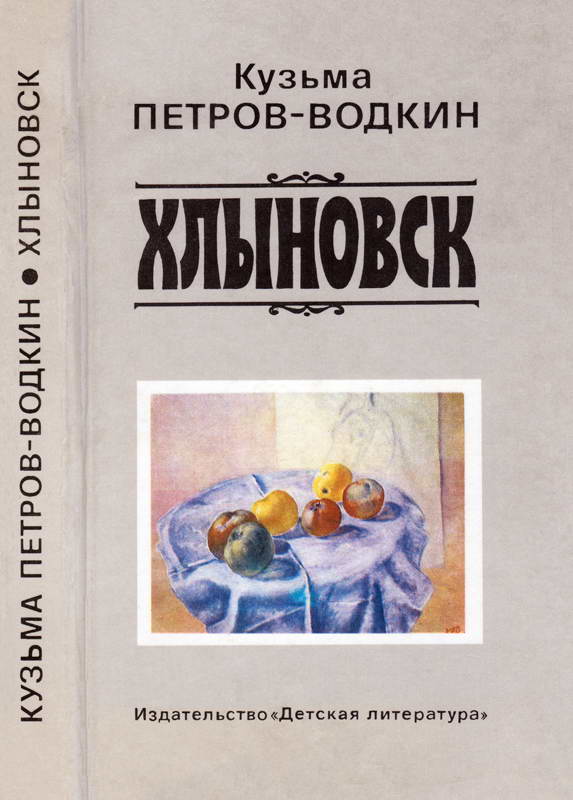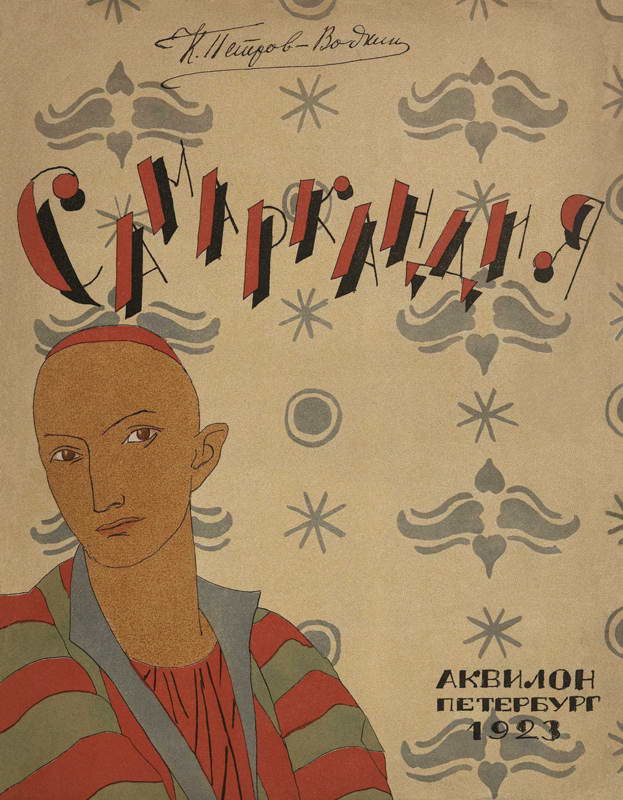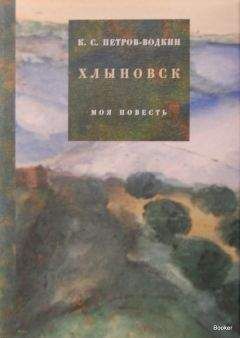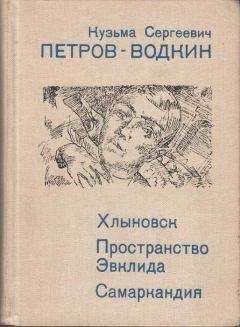Да еще иногда сунется, невзначай как будто, в громленый дом востроносая бабенка, и потом выйдет оттуда как ни в чем не бывало, будто «до ветра» сходила, только глазами озирается, да кажется постороннему, будто немного потолстела бабенка за пазухой. Да идут в одиночку люди с разных мест к острогу — это домочадцы несут атакованным еду в кастрюлечках, в тарелочках. Оторвутся от карт осажденные и покушают, чтобы запастись силами к самозащите… Неловко как-то осажденным оттого, что погромщики на них никакого внимания не обращают. Народу никого у острога — пройдут мимо старичок да пара старушек ко храму святому помолиться, поклонятся власти всей, аще от Бога есть, и опять тишь да гладь. Верейский даже перед острогом по воле гуляет, как во вверенном ему городе.
И только на следующий день, к вечеру, наискось от острога, на углу, несмело и застенчиво появились три молодых мужика и как бы стали семечки грызть, скрывая всякое внимание к осажденным. В остроге это произвело большой переполох: разумеется, это были разведчики… и все боевые силы были приведены в готовность.
Власти не ошиблись — мужики были действительно подосланы по особому стратегическому соображению Васьки Носова. Несчастный твердо верил в свою несчастную судьбу, и чтобы оградить себя от особых неожиданностей, выставил пикет. Об атаке властей народом ни у кого из мужиков не было и в мыслях, наоборот, они задавали вопросы друг другу: до которых-де пор позволят им власти беспорядок делать… не иначе-де подмогу ждут. Эта была и точка зрения Носова, ставшего как бы вождем движения. Как ни подмывало Ваську неожиданное счастье, поднявшее его хоть и на погромный верх, зазнаться, забыться, — Васька одергивал себя. Правда, были мужики, дававшие потом показания о планах Носова — перебить полицию в замке, но думаю, что это была не более как пьяная брехня с той и с другой стороны. Дело в том, что у Васьки к тому времени был уже готов лично его касающийся план для устройства новой жизни.
В бордовой рубахе, вышитой по вороту шелком, в новых портках, засунутых в смазные сапоги, сидя на крыльце у кабака, решал Носов дела банды: он установил слежку оборонительную как у острога, так и за пристанями, потому что слух, неизвестно откуда и кем пущенный, о прибытии войска ходил по городу. Он наметил дальнейший порядок погрома. Но народу, видимо, надоело бунтовать, не встречая сопротивления, и он ждал полагающегося в таких случаях усмирения, которое сняло бы, наконец, с него ответственность за состояние города, а осажденные власти в это время также мечтали о каком бы то ни было насилии к ним со стороны народа, чтобы оправдать свое поведение.
Хлыновцы, видимо, и по работе соскучились. Вот, например, Гаврилов, сапожник; он не последним состоит в бунте, но его к сапогам тянет. Работа в разгаре приостановлена: сапоги личные, военного образца для самого исправника заказаны, а тут и сам леший ногу переломит — не то заказчика укокошат, не то его, Гаврилова, распластают где-нибудь на мостовой, вроде Александра Матвеевича… А тут безносый еще лишнего, видать, понаделал… Эх, пить, что ль, покудова?
Начальник нашей почтово-телеграфной станции вывесил сейчас же после убийства доктора объявление на дверях конторы: «Закрыто до полной тишины и спокойствия» и в эту же ночь соединился с Самарой и сообщил о происходящем в городе. Только через день был получен ответ: «Меры приняты». Вот эти «меры приняты» и разнеслись по городу…
Следующая ночь была тревожной и похмельной для уставшей толпы. В середине этой ночи впервые раздались песни: «эх, да, эх», как только хлыновцы умели, — до засоса сердечного. Сейчас же с песнями остановился погром, и мирное население сразу поняло: утишились, мол, непутевые. «Что ни говори, а свои ведь все — сватья, племянники, внуки, а то и родные детушки, надерзили по городу; того наделали, чего отродясь не было; разве там при Разине каком, при царе Горохе, при язычниках… Ну, оно, конечно, как говорится, за правду мужики поднялись: только руки вот больно размахались… Упокой, Господи, убиенного целителя Александру…»
В эту же ночь два мужика и баба пришли на перекресток с палками и рогожей, подняли на них с мостовой «убиенного целителя» и отнесли в приемный покой, где лысый Терентьич плотник к тому времени соорудил уже гроб и краской выкрасил.
На рассвете этой ночи, хотя как и в чаду находились мужики, но им бросилось в глаза отсутствие Носова. Хватились — нет его.
— Где, где Васька? Где безносый черт?
— Убивал кто? — нет, не убивали.
Видели там-то, а после этого и пропал коновод… Гаврилов из-под хмеля вспомнил, что Васька еще вчера что-то ему плел о новой своей жизни, в низах где-то…
Тут подскочил к мужикам шустрый парнишка, лет двенадцати:
— Дяденька, а я его, безносого, у пристаней видел… На лавочке сидел и деньги считал… Тьма деньжищ, дяденьки, и все он их в карманы совал…
Мужики хором даже зубами скрипнули: «Утек, вор, а не утек, так искать надо, живым либо мертвым… Ведь он, сукин сын, поджигалой был… был, а?»
И все сразу вспомнили Ваську по весеннему пожару, хитрили мужики, будто бы раньше не узнавали его…
Бросились на Волгу и нашли Ваську на Самолетской пристани спрятавшимся в трюме. Видно, парохода ожидал, чтобы в низы улепетнуть. Из карманов его вынули рублей двести денег.
Что делать с изменником? Сутулый невеселый мужик сказал:
— Его, так или этак, а надобно изничтожить, — больше ему дозволить баловаться — невозможно…
— Утопить его! Бросай в воду!
— Нет, обожди, тягу ему на шею надобно, — толково разъяснил невеселый.
Сбегали на берег за сверленым камнем, которые у нас употребляются вместо якорей на рыбной ловле. Камень с мочальной веревкой, готовый. Обмотали кругом тела с руками, сделали мертвый узел… Связанный молчал; куда девались его прежние жалобы в таких случаях. Только когда с камнем все было готово, он проговорил:
— Бесполезно убивать хотите, мужичье…
— Надо, Василь, ты помалкивай, — успокоил невеселый Ваську. Раскачали Василия Носова и швырнули через борт на глубину, на стрежень. На месте падения только булькнуло и тотчас же смолкло…
Из-за острова выкатилось солнце и брызнуло лучами по воде.