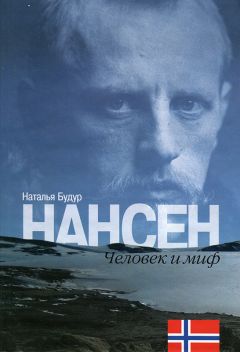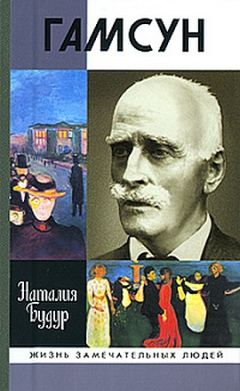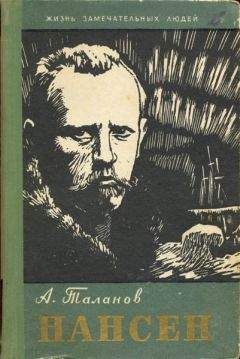«Мне трудно общаться с ней. Я с трудом выношу её, она приводит меня в ярость. Я не верю, что ты серьёзно ею увлечён. Ведь ты любишь меня. Или она так неотразима?»
Нансен пребывал в это время в депрессии. Едва приехав в Лондон, он записывает в дневнике:
«Мне присылали поздравления многие, даже король, все в общем умные люди. Если б они только знали, как мне противна эта жизнь и как мало я для неё пригоден. Но я заметил, что многие стали относиться ко мне с большим почтением, ещё бы, ведь это такое „повышение“, теперь мне и цена другая».
А пожив немного в Лондоне добавляет:
«Большинство людей, по-моему, думают в первую очередь о том, какое впечатление они производят на других, даже на своих подчинённых. Многие остерегаются высказать своё мнение по сложному вопросу из боязни показаться дураком. Другие высказываются туманно, надеясь придать себе значительности. Всю свою жизнь мы стараемся быть такими, какими бы хотели бы нас видеть окружающие. Кто живёт ради себя самого? Кто живёт своей собственной жизнью? Кто в состоянии избегнуть этой бессмысленной траты времени?»
Фритьоф чувствует себя усталым: «Зачем я здесь и как это всё получилось?» — но тем не менее живёт насыщенной жизнью — и политической, и светской.
17 мая в Лондоне в норвежской миссии празднуют День независимости Норвегии. На торжество приходит находящийся в то время в Великобритании Эдвард Григ, который произносит пламенную речь, а затем слово берёт первый посол Норвегии в Англии — и говорит о величии своего народа. Некоторые высказывания вряд ли можно назвать политкорректными с современной точки зрения:
«Григ, Бьёрнсон и Ибсен — вот истинные представители нашего народа. Подумайте о таких странах, как Болгария или Сербия! У них нет таких великих представителей, которых оценила бы великая Европа».
Фритьоф обо всём пишет своей Еве — но письма его стали намного сдержаннее. Лив вспоминала:
«Родители понимали, что нельзя больше расставаться так надолго и так часто, и вскоре начали подумывать, не лучше ли будет всей семьёй переехать в Лондон. Но когда дошло до дела, мама из-за детей передумала. Отец не разделял её страхов, но не хотел показаться эгоистом. Во всяком случае, ему надо было осмотреться и подыскать дом для семьи.
Каждый из них думал о своём: Фритьоф переживал, что за последний сумбурный год они с женой отдалились друг от друга. Они уже не были так откровенны друг с другом, как прежде, притом по его вине. Отец замкнулся в себе и не мог преодолеть этой замкнутости. Мама делала вид, что ничего не случилось. Она никому не показывала, как ей тяжело. На людях она держалась, хоть это и нелегко ей давалось.
Дома было куда хуже. Я уже подросла и понимала, что что-то неладно. Иногда у мамы делалось такое задумчивое лицо, что я даже пугалась: брови нахмурены, так легко улыбавшиеся раньше губы крепко сжаты, словно она принимает какое-то важное решение. Меня пугало её лицо, я привыкла следить за его выражением. Как-то вечером я зашла в гостиную пожелать ей доброй ночи, она сидела за столом и писала отцу. Увидев меня, она быстро отложила лорнет и торопливо вытерла глаза. Но было уже поздно.
„Что-нибудь случилось, мама?“ — спросила я. Так всё выяснилось, и мы совершенно естественно заговорили об этом. „Только то, — сказала мама, — что твой отец за последний год стал другим. Словно его подменили. Дома он всё время чем-то занят — либо работой, либо политикой, либо думает о чём-то своём, словно мамы для него не существует. Он пишет маме милые ласковые письма, но даже в письмах нет былой откровенности. Мама думала, что он кем-то увлечён, ведь такое случается. Но его не в чем упрекнуть. Тут уж ничего не поделаешь, возможно, всё у него пройдёт и он станет прежним. Надо надеяться и не вешать носа…“
Переписка моих родителей лежит передо мной. Красноречивые письма. Из них явствует, как родители любили друг друга, не могли жить друг без друга и каким трогательным и неуклюжим был отец, когда тщетно пытался выпутаться из того сложного положения, в котором очутился».
Положение действительно было сложным и неприятным. Нансен «засел» в Лондоне, где вёл переговоры о получении Норвегией гарантий самостоятельности и нейтралитета, и одновременно увяз в не менее тяжёлых переговорах с собственной женой, которую просто загнал в угол.
В ответ на письма о Сигрун Мюнте, когда уже стало бессмысленно отрицать очевидное, Фритьоф пишет Еве, что Сигрун неадекватна и экзальтированна, что Еве не надо к ней приближаться и по возможности не стоит общаться.
В письме от 29 мая он заявляет вообще удивительные вещи:
«Фру М. не совсем нормальна. И когда я проводил с ней столько времени вместе, то делал это не ради собственного удовольствия, а совсем наоборот, потому что после встреч с ней я всегда становился подавленным и грустным. Я встречался с ней потому, что относился к ней как к пациенту. Я заботился о ней! Я был очень расстроен, что она вернулась домой из-за границы раньше, чем я сам уехал, потому что тогда бы я избежал встречи с ней». Фритьоф пишет, что боится, будто Сигрун может покончить с собой.
Но вряд ли подобные письма могут обмануть какую-нибудь женщину, тем более такую умную и проницательную, как Ева. Она продолжает не верить мужу и требует объяснения. Она даже не едет на коронацию (уже после примирения) норвежского короля в Трондхейм, куда по служебной надобности прибывает норвежский посол в Англии.
После долгих попыток успокоить жену Фритьоф призывает на помощь посредника-миротворца. Им становится аккомпаниатор Евы, пианистка и друг семьи Ингеборг Мотцфельдт. «Добрый ангел» смог успокоить фру Нансен, которая позднее писала:
«Ингеборг М. — мой самый дорогой друг, который у меня когда-либо был, и никогда в жизни я её не забуду».
В письме из Трондхейма Нансен с иронией рассказывает Еве о плавании на роскошной королевской яхте:
«Когда я вспоминал, к каким условиям жизни я привык — на „Фраме“ и в других местах, — то думал, что здешняя роскошь произведёт на меня сильнейшее впечатление. Однако я всё воспринял как должное. Может быть, я слишком избаловался. У меня на одного три каюты — спальня, гардеробная и ванная с туалетом. Мне явно этого многовато. Меня даже спросили, где мой слуга, — и мне стало жаль, что я не озаботился этим. Ты только подумай, как тяжко мне приходится — я вынужден одеваться самостоятельно!»
Постепенно Ингеборг смогла восстановить мир в семье — но Еву всё время раздражает присутствие соперницы. Она пишет мужу в Лондон: