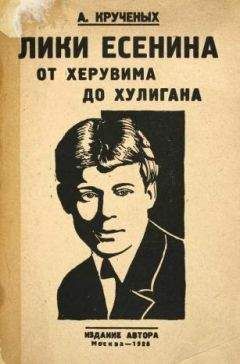Дневниковые записи Галина иногда вела во время приступов неврастении. Обострившаяся болезнь вынудила ее в ноябре 1925 года лечь в московский санаторий имени Семашко. С 19 ноября по 19 декабря с диагнозом «общее депрессивное состояние» она проходила обследование и соблюдала назначенный врачами курс лечения. Анализ крови по методу Вассермана свидетельствовал о прогрессирующей болезни, которая приводит к депрессии. При выписке Бениславской выдали Удостоверение № 50, согласно которому «состояние здоровья больной за указанный срок несколько улучшилось», но «работоспособность не восстановлена». Галине порекомендовали провести 6–8 недель в деревенской обстановке, а также заниматься легким физическим трудом.
Выполняя рекомендации врачей, 20 декабря 1925 года Галина выехала в село Дмитровская Гора Тверской губернии и стала жить в семье Назаровых. В письмах к ней Аня Назарова просила подругу «не стесняться» ее родственников.
Бытовые условия ее удовлетворяли. Не могла только освободиться от постоянных раздумий о Есенине, о причинах расставания с ним. Не с кем было поговорить. Единственным собеседником оставался все тот же «Дневник». Пыталась себя успокоить, что делает дневниковые записи «не для того, чтобы поделиться, а для того, чтобы себе на память записать». Она вновь и вновь осмысливала прожитое с Есениным время. Понимала, что ее романтическое представление испарилось. Стала на себя, Есенина и его окружение смотреть иными глазами, словно освободившись от розовых очков. «Авось на этом моя романтика кончится. Пора уж», — записала она.
В дневнике появились записи, о которых она в прошлом не могла бы подумать. В основном они касались Есенина. В выражениях Галина не церемонилась. «Сергей — хам, — писала она. — При всем его богатстве — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-нибудь простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. А теперь — чем он для меня отличается от Приблудного? — такое же ничтожество, так же атрофировано элементарное чувство порядочности: вообще он это искусно скрывает, но тут в гневе у него прорвалось. И что бы мне Катя ни говорила, что он болен, что это нарочно, — все это ерунда. Я даже нарочно такой не смогу быть. Обозлился на то, что я изменила? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли?! Перемудрил! — Конечно, разбилась! А дурак бы заранее, не испытывая, знал, что разобьюсь. Меня подчинить нельзя. Не таковская! Или равной буду, или голову себе сломаю, но не подчинюсь. Сергей понимал себя, и только. Не посмотрел, а как же я должна реагировать — истории с Ритой, когда он приводил ее сюда, и при мне все это происходило, потом, когда я чинила после них кровать (после Крыма). Всегдашнее — «я, как женщина, ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему?»
Бениславская не находит ответа на многие вопросы. Для нее непонятным было желание Есенина жениться на Толстой, которую он не любил. В дневник записывает одну из версий, пришедшую ей на ум: «Наконец, погнался за именем Толстой — все его жалеют и презирают: не любит, а женился — ради чего же, напрашивается у всех вопрос, и для меня эта женитьба открыла глаза: если она гонится за именем, быть может того не подозревая, то они ведь квиты. Если бы в ней чувствовалась одаренность, то это можно иначе толковать. Но даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, ее никто не заметил бы даже. Сергей говорит, что он жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю. Он сам себя обрекает на несчастья и неудачи. Ведь есть кроме него люди, и они понимают механизмы его добывания славы и известности. А как много он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал бы только талантом, а не этими способами. Ведь он такая же блядь, как француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и прочим. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не могла бы пойти. Я не знаю, быть может, это вино вытравило в нем всякий намек на чувство порядочности. Хотя, судя по Кате, эта расчетливость в нем органична. Ну, да всяк сам свою судьбу заслуживает».
29 декабря Бениславская отправила в Москву письмо Ане Назаровой. Она не знала, что в это время общественность была встревожена и взбудоражена известием из Ленинграда о неожиданной трагической смерти С. А. Есенина.
Об этом Галина Бениславская узнала с опозданием. За ней приехала с печальным известием Аня. Из-за сильной пурги они с трудом добирались до железнодорожной станции. Всю дорогу до Москвы Галина вновь и вновь вспоминала многое из прошлой жизни, связанной с Есениным. Не верилось, что его теперь нет в живых, что жизнь теперь разрезана какой-то невидимой чертой на периоды «до» смерти поэта и «после». Жизнь без Есенина, жизнь без него в одиночестве для нее не представлялась возможной.
В Москву прибыли в первый день нового, 1926 года. Отправилась к Анне Берзинь, у которой родственники Есенина после поминок остановились на ночлег. «Довольно рано все улеглись спать, — вспоминала А. Берзинь, — и, видимо, уже спали, когда раздался звонок. Я встала и открыла дверь. Передо мной стояла Галина Артуровна Бениславская.
— Как же это вы его похоронили, а мне даже телеграммы не дали? — были ее первые, очень грустные слова. Упрек был законный. Как можно было забыть ее, верную и трогательную подругу Сергея Александровича Есенина?
Галя вошла в комнату.
— Где они все?
Я показала на комнату. Галя вошла туда.
Спать я уже не могла. Встала, оделась и пошла посмотреть, что делает Галя. Застала в ванной комнате Катю и Галю. Обе были в шубках, собирались куда-то.
— Далеко ли вы собрались?
Галя замешкалась с ответом, потом, поглядев на Катю, предложила:
— Поедем на кладбище с нами. Ему одному там в первую ночь очень тоскливо будет. Новый год встретим с ним. Поедем.
— Вы с ума сошли! — только и могла я сказать. — Никуда не пущу.
Я заперла дверь и ключ взяла к себе.
Галя просила выпустить их, она так просила, что мне казалось, еще минута — и я их отпущу. Но чтобы этого не случилось, ушла в кабинет и прилегла там.
Они долго сидели в ванной комнате, шушукались, потом потушили свет и пошли, видимо, спать.
Утром суета, поднявшаяся в доме, разбудила и меня. Искали ключ от двери, а он лежал у меня под головой».