Ознакомительная версия.
Возможность скрыться на краю земли, вдали от кагебешных всевидящих очей, царящих в «культурных» центрах, было спасением для многих наших друзей, имевших собственное мнение и не желавших «идти в ногу».
Выбор моей профессии, например, был продиктован именно этими соображениями. Впрочем, поначалу я, дитя гуманитариев, шалеющая при виде интеграла, мечтала о дипломатической карьере, а именно о МИМО – Московском институте международных отношений. Для лица еврейской национальности это была утопия. Тогда я решила спуститься «на ступеньку ниже» и собралась на филфак. И тут мой папа, человек мягкий и деликатный, впервые в жизни оказал на меня давление: «Очень прошу тебя, иди в геологию. Врать придется меньше. Гранит состоит из кварца, полевого шпата и слюды при всех режимах».
Я поступила в Горный, и оказалось, что именно там расцвела литературная жизнь Ленинграда. Знаменитое Литературное объединение Горного института под руководством Глеба Семенова взрастило целую плеяду поэтов и прозаиков. Достаточно вспомнить Леонида Агеева, Андрея Битова, Володю Британишского, Яшу Виньковецкого, Алика Городницкого, Глеба Горбовского, Лиду Гладкую, Олега Тарутина, Лену Кумпан... О своей геологической юности я не пожалела ни одной минуты.
В конце пятидесятых Горное лито перестало существовать, и Глеб Семенов создал новое литературное объединение при ДК Первой Пятилетки. Хотя Бродский к этому лито формально не принадлежал, но несколько раз выступал с его участниками на литературных вечерах. Со многими «полевыми» геологами Бродский дружил всю жизнь, и они не раз мелькнут на страницах этой книжки.
Была еще третья компания, которую объединяла страсть к американскому джазу и Польше – польским журналам и фильмам, а потом и к польской поэзии (оттуда и сделанные Бродским замечательные переводы Галчинского). В нее входили Славинский, Ентин, Володя Герасимов. Эта компания гнездилась в Благодатном переулке, в квартире, которую снимали Славинский и Ентин с молодыми женами. С ними пересекалась компания Володи Уфлянда, Миши Еремина, Лени Виноградова, Леши Лосева (Лившица) и др.
Был еще круг Гарика Воскова, Уманского и Шахматова. Знакома я была лишь с Восковым, жену которого, синеглазую красавицу Люду, по просьбе Иосифа после рождения ее сыновей устраивала на работу в Ленгипроводхоз.
Боясь ошибиться в датах, я позвонила Славинскому в Лондон, чтобы уточнить, когда на их горизонте появился Бродский.
Вот отрывок из его ответа:
Познакомились мы с Иосифом летом 59-го на Благодатном. У Иосифа было полтысячи приятелей моего уровня или степени близости. У нас там бывали самые разнообразные люди, так что затрудняюсь вспомнить, кто его привел. Ранние стихи его были встречены критически – «масса воды и ложного пафоса» – и я, помню, сказал, что полезно было бы ему познакомиться с кем-нибудь из Технологической троицы. Что и произошло. (Технологическую троицу тогда составляли Рейн, Найман и Бобышев. – Л. Ш.). Мы бесконечно разговаривали о стихах, и к моему мнению он относился внимательно. Уже в 65-м, составляя антологию ленинградского самиздата для Ю. Иваска, я туда включил около десятка его вещей. В этот альманах вошли еще Технологическая троица, Еремин, Горбовский и Волохонский, а вот Володю Уфлянда и Олега Григорьева я, каюсь, проглядел. Или не было под рукой текстов. Впоследствии, в Риме, Бродский охотно соглашался, что «да, воды было много». Кстати, в начале восьмидесятых гуляли мы с Жозефом по ночному Риму, он читал вещи одна лучше другой, и в какой-то момент я сказал: «Тянет на Нобеля». Конечно не я первый это заметил, да и сказал это не в качестве высшей похвалы, а как попытку объективно оценить класс.
Еще одну, кажется, четвертую по счету компанию, составляли Боря Шварцман с женой Софой Финтушал, архитектор Юрий Цехновицер по кличке Цех, композитор Сергей Слонимский и их приятели.
Борису Шварцману, первоклассному художнику-фотографу, принадлежат четыре известных портрета «раннего» Бродского, более пятнадцати портретов «поздней» Ахматовой, фотография «сирот» над ее гробом в день похорон и множество портретов ленинградской творческой элиты.
Шварцман и его жена Софа, оба близкие наши друзья, были и нашими соседями: наши дома находились друг напротив друга. Но у Бори была еще комната в коммуналке на улице Воинова. В ней в 1962 – 63 годах поселился Бродский, спасаясь от излишней близости с родителями. Это крошечная комнатушка (вероятно, в прошлом для прислуги) была отделена кухней от остальных пространств огромной коммуналки. Иосиф мог приглашать туда дам, избегнув осуждающего родительского взора. Но главное, ему хорошо там работалось. Именно в этой клетушке он написал «Большую элегию Джону Донну» и «Исаак и Авраам». Когда Бродского арестовали, Рейн и Шварцман отнесли его родителям немудреный Осин скарб. Александр Иванович, очень подавленный и грустный, сказал: «Зря Ося стихи пишет. Занялся бы лучше чем-нибудь другим».
Вернувшись из Норенской, Бродский подарил Шварцману такие стихи:
ОТРЫВОК
Дом предо мной, преображенный дом.
Пилястры не пилястры, подворотня.
Та комната, где я тебя... О нет!
Та комната, где ты меня... С трудом
огромным нахожу ее сегодня:
избыток осязаемых примет.
Несет борщом из крашеных дверей.
Гремит вода сквозь грязную посуду.
Над ванночками в сумраке сидит
затравленный соседями еврей.
Теперь там фотографии повсюду,
огрызки фонарей, кариатид.
Луна над легендарным шалашом.
Клочки Невы, надгробие из досок.
Бесчисленные бабы нагишом...
И это – если хочешь – отголосок.
Юрий Орестович Цехновицер, сын известного литературоведа, жил на Адмиралтейской набережной в доме № 10. У него была роскошная (по понятиям того времени) квартира в бельэтаже. Прямо под окнами – Нева, а на другом берегу – Ростральные колонны, Академия наук, Кунсткамера, Двенадцать коллегий.
В квартире пятиметровые лепные потолки, массивные ореховые двери с резьбой, карельская береза, бронзовые канделябры, картины в тяжелых золоченых рамах, книжные стеллажи до потолка, копия посмертной маски Пушкина, цилиндры на круглой вешалке в передней – одним словом, никакого намека на существование советской действительности. Входишь непосредственно в ХIX век.
Юра, талантливый художник и архитектор, был шумным, бородатым «бонвиваном» и светским львом. 7 ноября, когда население Советского Союза напивалось в стельку в честь Великой Октябрьской, мы до утра «гуляли» у Цеха, празднуя день его рождения. Получалось как бы вместе со всей страной, но по другому поводу. Цеха и его барскую квартиру Бродский вспоминал не раз, в частности в беседах с Евгением Рейном во время их встреч в Нью-Йорке в 1988 году.
Ознакомительная версия.
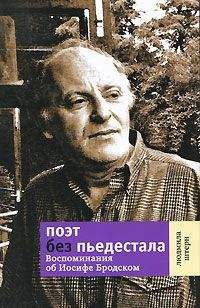




![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)