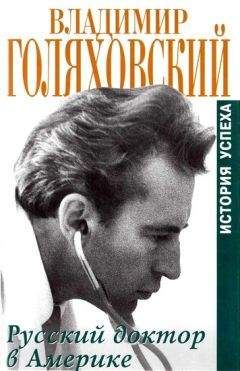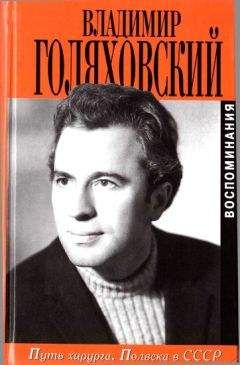Я смотрел на Россию в последний раз и испытывал жалость к её убогости. Но вот мы поднялись в облака. Я оторвался от окна: две стюардессы сервировали для нас шикарный завтрак: вкусный хлеб, вологодское масло, ароматно пахнущие сосиски, свсжие пирожные и, конечно, чёрная и красная икра. Этого не купишь в обычном магазине, и, конечно, мало кому такое доступно. А мы будем пировать! После завтрака я решил размяться и пройтись вдоль общего салона позади нас. Там, в самом конце, сидели два нахохлившихся мрачных мужчины. Пока я ходил взад-вперёд по длинному проходу, они исподлобья следили за мной. Взгляд был довольно профессиональный: это были агенты КГБ — непременный атрибут каждого советского самолёта. Даже уже выпущенные из Союза, мы всё ешё находились под их бдительным оком.
И вот стали снижаться — значит, вблизи Вена. Раздался характерный стук выпущенных шасси, и вот уже коснулись земли. И не просто земли, а земли свободной. Мы с ликованием переглянулись. Самолёт подрулил к вокзалу, и нам подали лестницу. Мы спустились на заснеженную землю Вены. Я жадно вдыхал морозный воздух свободы. Оглянулся — за нами никто не вышел. Значит, агенты остались позади и мы уже недосягаемы. Тогда я плюнул в сторону самолёта: меня просил об этом мой друг Норберт Магазаник. Сам он это сделать не мог: ему отказали в разрешении на выезд. Нас сопровождала элегантная австрийка из таможенной службы. Когда я выразительно плюнул, она покосилась на меня и улыбнулась. Она встречала многих иммигрантов из Союза и поэтому поняла, наверное.
Венский аэропорт был для нас воротами в Европу. По сравнению с московским всё здесь было намного цивилизованней и человечней. Войдя внутрь, мы проходили вдоль стеклянной стены, за которой стояли встречавшие, — не было изоляции людей друг от друга, как в Москве. И в той толпе мы увидели радостные лица наших близких — встретить нас приехали две пожилые двоюродные сестры моего отца, Зина и Берта, и наши друзья Коля и Лена Савицкие. Это они нашли мне «израильскую тётушку» и помогли нам вырваться. Мы прильнули к разделявшей нас стеклянной перегородке, радостно улыбаясь друг другу.
Расстанавливаться нам по порядку здесь не было необходимости — австрийцы приветливо проверяли наши визы. В их взглядах не было недоверчивости и враждебности, как у хмурых советских пограничников. Они хорошо знали, кто такие люди из России — в те годы массовая волна эмигрантов-евреев протекала через Вену. Президентом Австрии был еврей Бруно Крайский, который разрешил использовать её как пересылочный пункт на пути эмиграции (дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем в те годы не было).
Только мы прошли контроль, к нам устремилась какая-то молодая женщина.
— Шалом! — приветствовала она нас певучим голосом. — Вы доктор Голяховский? — она сверилась с записью в блокноте: информация о выезжающих была налажена чётко.
— Шалом, — ответил я на непривычном еврейском, — это я.
— Куда вы едете, в Израиль или в Америку?
— Мы едем в Америку.
— Вы хорошо подумали? В Израиле вы нужней. И возможностей там для вас больше.
(Предыдущие иммифанты писали нам об этой миниагитации в аэропорте.)
— Спасибо за предложение, но мы хотим ехать в Америку.
Она продолжала настаивать:
— В Америке вам будет намного трудней. И вашему сыну тоже. Подумайте хорошо.
— Мы всё уже твёрдо решили.
— Если вы передумаете, мы завтра же переправим вас всех в Израиль. И вы сразу начнёте работать.
— Извините, но наше решение твёрдое.
По правде говоря, я не ожидал такого натиска. Это было время, когда в Израиль ехало не так много народа, как потом, и он был готов биться за каждого иммигранта. Неудивительно, если кое-кто из беженцев менял решения под этим давлением. Но я не поддался.
Сзади к нами уже подходили наши встречающие. Израильтянка отступилась.
Но вот, наконец, мы обнимаем наших близких. Зина кричит:
— Свободны, свободны!
Отец целуется с Бертой, оба плачут. Они однолетки и в молодости были влюблены друг в друга. Не виделись шестьдесят лет. Объятия, поцелуи, восклицания — всё будто во сне. Ведь мы действительно впервые в жизни свободны!
Опять подошёл незнакомый мужчина:
— Вас ждёт машина, везти в гостиницу для беженцев. Чемоданы до переезда дальше брать нельзя. Переложите в сумку лишь то, что понадобится в гостинице.
Вот тебе на! В сустс мы с Ириной начали отбирать: запасное бельё, пижамы, чашки, ложки, что ещё? — мыло, носки., да, носовые платки! А пледы, если будет холодно? Клади пледы! Ещё что-то необходимое. Наконец, втиснулись в микроавтобус «Форд». С таким малым количеством вещей мы по-настоящему почувствовали себя беженцами.
Маленькая неблагоустроенная трёхэтажная гостиница за Дунайским каналом вся пропиталась запахом варёных кур: в каждой комнате размещалась целая семья, независимо от числа людей, и каждая семья варила дешёвых кур на привезенных с собой электроплитках.
Всё устройство беженцев было нелегальное и оплачивалось американским правительством и из частных еврейских пожертвований. Эта гостиница, больше похожая на заезжий двор, принадлежала богатой венке по имени мадам Бетина. У неё была сеть роскошных отелей и шикарных магазинов. Как дополнительное «дело» она содержала несколько старых домов, приспособленных под временное прибежище неприхотливых русских евреев. Размешала в них втрое больше людей, чем было мест. И так же нелегально получала за это втрое больше денег от еврейских организаций. Условия были примитивные: комнаты маленькие, по коридорам бегали дети и ковыляли старики, туалет и умывальники общие для всех, там стояла длинная очередь. Душа не было вообще. Но беженцы жили здесь не дольше десяти дней и потом переправлялись дальше — в Рим. Всем выдавали на руки австрийские шиллинги на ежедневное существование из расчёта $3 в день. На эти деньги в ресторан не разбежишься. Поэтому все покупали продукты в ближайшем крохотном магазине, а куры были дешевле всего.
Нас пятерых тоже разместили в одной комнате: две кровати, стол и большое зеркало, а посередине ещё стояли три узкие железные койки с тощими матрасами, сереньким бельём и тонкими одеялами. Хорошо, что мы успели захватить пледы! Меня эти условия не могли очень тяготить, я долго жил в советских коммуналках и легко переносил общие туалеты и умывальники. Но бедная моя Ирина никогда не жила в таких условиях. Она сразу заметно помрачнела, я обнял её и спросил на ухо:
— Что с тобой?
— Вот она — жизнь иммигрантская. Такой я её себе и представляла, — и на глазах у неё появились слёзы.