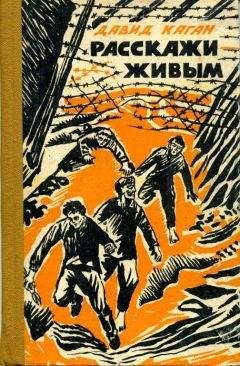Что буду отвечать, если он и меня начнет спрашивать? Решаю: русский! Может быть, он в фамилиях не разбирается или еще фамилий раненых не знает толком.
После проверки Данила Петрович приносит баланду и сухари. На каждого — кружка отвара из тухлой конины и два сухаря. В шесть часов вечера будет вторая кружка, но уже без сухаря. Суп варят из трупов убитых лошадей, при июльской жаре мясо быстро загнивает. Прежде, чем выпить свою порцию темной жидкости, выбрасываю всплывшие на поверхность белые тельца червей.
— До чего жадюги! — Данила Петрович в сердцах материт лагерное начальство. — Здесь же, в военном городке, после наших остались склады с консервами, мукой, крупой и всякой всячиной.
— Чтоб вор да отдал награбленное! — откликнулся лейтенант Новгородний. — Им что ни попади под лапу — все сгребут. Про них и поговорка: сколько собаке не хватать, а сытой не бывать!
Оккупанты знают толк в трофеях, опыт большой у них. Консервы можно отправить nach Hause[3], в Германию, или здесь обменять у голодающих горожан на хорошие вещи. Трофейные марлевые бинты они забрали себе, а свои, из гофрированной бумаги, выдают врачам лазарета, и то по счету, один раз в неделю. В гнойных повязках уже завелись черви — личинки мух.
Расскажи кто-нибудь раньше о такой жизни, то подумал бы, что ничего другого не остается, как ждать своей участи, вперив в пространство взгляд, полный тоски и страха. Каждую минуту может войти немец, назвать твою фамилию и вызвать на допрос, на расправу. А не сумеешь пойти, так поволокут. Голод сушит нутро и уже не хватает слюны, так часто ее глотаешь. Но человек и в таких условиях — не загнанное на охоте животное. Вот все девять больных улыбаются, глядя на цивильного доктора Старопольского. Тот заканчивает обход. Все в нем приятно: и седая бородка клинышком, и розовая лысина. Широкоплечий, низкорослый. Сейчас он остановился около больного, крайнего у двери. Узнав, что тот из Днепропетровска, радостно восклицает:
— Знаю! Знаю. «И там я был, и мед я пил!» Пиво там замечательное. Только давно это было, в тринадцатом году. Екатеринославом тогда город назывался.
На вопрос, что слышно о фронте, он не отвечает, а только разводит руками. И помолчав немного, обращается ко всем:
— А скажите, кто написал:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Лицо одухотворенное, голова немного запрокинута назад. Ему около пятидесяти. Здесь, в Лиде, прошли двадцать лет его врачебной практики. После окончания Харьковского университета был военным врачом в первую мировую войну. Потом поселился в Лиде.
* * *
Второй день не появляется Старопольский в палате. Говорят его посадили вместе с другими одиннадцатью заложниками, известными в городе людьми, и будут держать до тех пор, пока еврейская община не соберет контрибуцию. Не соберут к сроку — убьют заложников.
У окна лежат лейтенант Новгородний и политрук Аркадий. Оба одних лет, рослые, красивые. У Новгороднего касательное ранение живота и повреждение тазовой кости.
— Что это острое торчит? — спросил он однажды во время перевязки, — неужели кость?
— Ничего! — успокоил его врач, — выйдет с гноем.
Политрук температурит, по вечерам его лихорадит. Раненая нога распухла. К нему все относятся предупредительно. С ним редко заговаривают, но если есть лишняя закрутка табака, то передают Даниле Петровичу, а тот, будто из своих запасов, потом отдает Аркадию. Каждый из нас ждет своей судьбы и не знает, жизнью или смертью она обернется. Он же знает, что смерть ждет его за дверьми. Немцам известно, что он комиссар. В броневике выехали на разведку, с ним водитель и боец-стрелок. Попали под минометный обстрел наступающих немцев, машина загорелась, Аркадия и водителя ранило. Выскочили из броневика, кое-как добрались до редкого леса. Уйти не удалось, немцы окружили и стали прочесывать лес. Звезда на рукаве, значит, комиссар.
— А жить хочется, Коля! — закончил он свой рассказ. — Еще и воевать мог бы...
— Жил, как коммунист, и умирать надо коммунистом! — резко, скрывая жалость к товарищу, сказал Новгородний. И помолчав немного, как бы про себя добавил:
— Умереть мы сумеем...
Аркадий ждет каждую минуту, что за ним придет гестаповцы. Новгородний записывает на клочке бумаги адрес Аркадия: Ленинград, улица Желябова...
За окнами лазарета шумит лагерь. Военнопленные все прибывают, в казармах нет мест, и тысячная толпа с наступлением ночи ложится вповалку на землю. Водопровод не работает, привозной в бочках воды не хватает — пьют, что попало. Часто, во время поверки, из лагеря доносится свирепый лай, крик пленных. Это начальник вахткоманды со своей овчаркой приходит послушать рапорты полицаев[4]. Собака бросается на тех, кто опаздывает стать в строй.
К Новгороднему пробрался из лагеря его земляк и однополчанин, совсем еще юнец Присев на койку, он рассказывает лагерные новости. Формируют команды, для отправки в Германию.
— Меня, может быть, не увезут, я говорю, что приехал сюда, в Западную Белоруссию, к сестре в гости. Как, поверят? — спрашивает он лейтенанта, посматривая на свою гражданскую майку и брюки.
Новгородний молча пожимает плечами. Оба молчат, каждый, наверно, вспоминает свой отчий дом в далекой Сибири.
— А скоро война кончится?
— Кто это может знать? — отвечает Новгородний недовольный наивностью вопроса. — Как я понимаю, война только начинается. — Поправил упавшие на лоб длинные льняные волосы, отвернулся.
Рядом с Ивановским лежат Клейнер, комиссар полка, и врач Пушкарев. Пушкарева призвали в армию из Тулы, незадолго до войны, хирургом медсанбата. В палате он самый старший. Можно дать и шестьдесят, если судить по морщинистому смуглому лицу и седой голове, но в таком возрасте в армию не призывали, наверно, он значительно моложе, Рана на правом бедре небольшая («зацепило с краю» — как он сам говорит), а гноится, ходить Степан Иванович не может. Иногда присядет, принимая от кого-нибудь окурок, или передавая его соседу. О себе мало рассказывает, но любит послушать других, иногда улыбнется или вставит меткое слово. Его впалые небритые щеки чем-то напоминают мне отца, я часто поворачиваю голову в его сторону.
Полк, где служил Клейнер, не сумел отойти на восток, но людей и оружие не растерял. Немцы уже заняли Барановичи и Минск, а под Гродно все еще была слышна артиллерийская стрельба. Полк стремился пробить толщу окружения и выйти к своим.
Жена и дети Клейнера остались в Гродно.