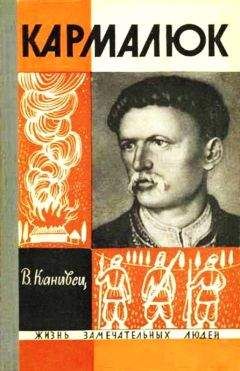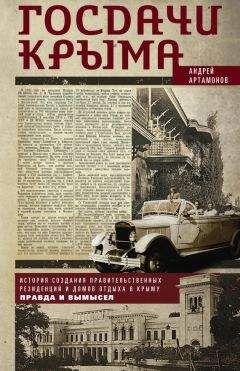Деятельность Желябова уже в те годы отличалась разнообразием. А. Шехтер, например, вспоминает о Желябове, как о школьном учителе. Студенты открыли для приказчиков и швей тайную школу в противовес казенным "заведениям". В школе имелось пять групп-классов. В низшей группе обучали простой грамотности: Желябов преподавал русский язык.
— Это был, — сообщает Шехтер, — талантливый пропагандист, и девочки наши слушали его с захватывающим интересом. Действовала на нас прежде всего его внешность: эта крупная фигура, эта гордая голова, покрытая длинными прямыми волосами, которые он красивым энергичным жестом откидывал часто назад; вообще каждое движение его выражало силу несокрушимую. Начинается урок. Желябов читает сам стихотворение Пушкина: "Зима… Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь"… и т. д., или Томаса Мура "Песня о рубашке"… После прочтения стихотворения Пушкина и данных им разъяснений, крестьянин становится для нас чем-то близким… Вторым стихотворением — Томаса Мура Желябов сумел внушить нам в высшей степени сочувственное отношение к швеям; никогда после я не могла пройти равнодушно мимо этих работниц."[9]
Но само собою понятно, больше всего нелегально работал Желябов среди студентов и отчасти среди рабочих. В университете нарастало недовольство. Численность учащихся власти умышленно и резко сокращали. Вводились разные стеснительные правила, отнимались корпоративные права; стали усиленно следить за частной жизнью студентов; повсюду шныряли шпионы.
Общий уклад жизни тоже делался все более мрачным. Росла безработица. Голодные, больные безработные бродили по улицам. Порядки на фабриках и заводах ухудшались, рабочие терпели притеснения; уровень жизни их был жалкий.
В октябре 1871 г. профессор Богишич, человек чрезвычайно грубый, оскорбил одного студента, чем вызвал сильное возмущение. Члены кружка, и в особенности Желябов, находили, что настроением студентов надо воспользоваться для "крещения" университета.
Богишич хотел уйти в отставку, но начальство считало, что уступать студентам нельзя, и заставило Богишича продолжать лекции. Студенты ответили сходками, бойкотом профессора. На сходках больше всех выделялся Желябов. Он был "бессменным оратором"; воодушевлял студентов страстным красноречием. Сочинили песенку:
Все студенты собрались
В зале актовой у нас.
И отныне поклялись,
Что не будут слушать вас…
О дальнейшем О. Чудновский вспоминает: — Богишича освистали и заставили-таки прекратить лекции (в следующем году вернулся). Университет был закрыт, и начался суд над "зачинщиками" и "главарями" беспорядков. В число таковых прежде всего попал, конечно, Желябов и вместе с ним еще студент Белкин. Их исключили из университета, а администрация, забрав — по принятому обычаю — их "бумаги" из канцелярии, решила выслать их "на родину". В памяти моей с полной ясностью (как будто это было лишь вчера) воскресает сцена проводов этих двух "зачинщиков" на пристань: толпа юношей в несколько сот человек хлынула туда к, снабжая уезжающих деньгами и вещами, сердечно-братски прощалась с ними под напевом наиболее популярных в то время песен. Но поднялась буря, отход парохода был отложен до следующего дня. Полиция хотела препроводить Желябова и Белкина в участок на ночь, но провожавшая толпа запротестовала и потребовала выдачи ей обоих товарищей — на поруки — под честное слово, что оба на другой день рано утром явятся на пароход. Полиция уступила, и устроилась импровизированная сходка-вечеринка. Сходка тянулась всю ночь. Желябов, стоя на столе, произносил речь за речью, сменяясь изредка другими ораторами, в числе которых был, кажется, и Тригони. Тут же шла прощальная студенческая пирушка. На рассвете я заснул, и когда проснулся, в комнате не было уже ни Желябова, ни Белкина, строго соблюдая честное слово товарищей, они рано утром отправились на пароход, куда вскоре прибыли и все участники последней прощальной сходки.
Прощание было трогательно-братское… ("Из дальних лет")
Другой очевидец этих проводов, Семенюта, прибавляет:
"Публика толпилась, галдела, кричала, провожая отъезжавших возгласами, пожеланиями и пр. Полиция почему-то обиделась: чины ее суетились, разгоняли народ, но его было так много, что разойтись было не — легко. А когда после третьего звонка провожавшие бросились на берег, — произошла давка. Громкое "ура" слилось, смешалось с криками "помогите!"…
Об этих проводах запрещено было распространяться в печати. Но об них много говорили в городе. И, как всегда, с большими преувеличениями". (Из воспоминаний о Желябове. П. Семенюта, "Былое 1906, № 4.)
В Керчи Желябов пробыл около года.
Об "эпохе великих реформ" тов. Ленин писал: "Великая реформа была крепостнической реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники. Какая же сила заставила их взяться за реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма. Помещики-крепостники не могли^ помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых рушившихся форм хозяйства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские "бунты", возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу.
"Крестьянская реформа" была проводимой крепостниками буржуазной реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию… И после 1861 г. развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века. Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью, внутри помещиков, борьбой и с к л ю ч и т е л ь н о из-за меры и формы уступок. Либералы, так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти.
Эти революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных крестьян. И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже "бунтов", не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой "крестьянской реформы", весь ее крепостнический характер. Но главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский.