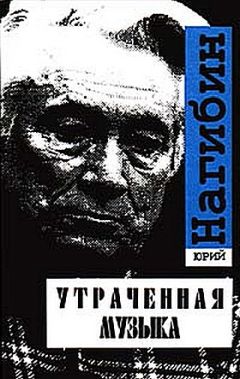Что он с этими стихами сделал? Бросил, порвал, а вдруг в свет пустил? Тогда помилуй нас бог… Но, вишь, время прошло, он мне записку ласковую прислал, обещал прийти, я обед затеяла, цыган позвала… Авось обойдется. А нет — что ж, мне не впервой сильным кланяться. Есть ход и к Бенкендорфу, и даже к великому князю Михаилу Павловичу. Он Лермонтова стихи ценит. (Вдруг залилась смехом.) В какие только истории я из-за Мишеньки не попадала! Помню, еще в юнкерах он жестокую простуду схватил. Мне донесли. Я сразу в Петергоф, где полк его стоял. Являюсь к полковнику Гельмерсону: отпустите больного домой. Он выставился на меня: «А если ваш внук захворает во время войны?» — «Ты думаешь (я ведь ко всем на „ты“), что бабушка его отпустит, где пули летают?» — «Зачем же он тогда в военной службе?» — «Да это пока мир, батюшко! А ты что думал?» И забрала я Мишеньку. Сейчас вон, говорят, с горцами сражение началось, самое время из военной службы уходить. Да попробуй уговори его! Значит, снова у нас споры и плачи пойдут, снова он на бабушку озлится. Ох, устала я, Аграфена. Чем старше Михаил Юрьевич, тем с ним труднее. Никогда не знаешь, что он выкинет. Может, зря я этот пир затеяла? Он еще по Александру Сергеевичу скорбит. Поди, разгневается на цыган и на хари мерзкие? (Звонит в колокольчик. Появляется торжественный камердинер Никита.)
Никита, как цыгане явятся, отведи их в малые покои и винца им рейнского подай. И пока не позову, держи там. Понял? Ежели отменится, сейчас расчет сделаешь, как за полный вечер. А ряженых собери в людской. И тоже без моего приказа не пускай. Никак внизу дверь хлопнула? Неужто Мишенька так поспешил? Ангельчик мой! Господи, а я и не одета. Аграфена, давай скорее платье, знаешь, бархатное с шитьем…
Снаружи слышится какой-то шум. Голоса. Никита выходит и почти сразу возвращается с конвертом в руке. Поклонившись, отдает барыне.
(В сильном волнении.) Господи, да что это? Неужто Мишенька передумал? Неужто не придет? Господи, пощади старуху. Отведи беду. Ох, как сердце колотится!
Аграфена капает из пузырька в стакан успокоительное, подает барыне, но та резко отводит ее руку.
Ну, Марфа Посадница, где же твоя смелость? (Разрывает конверт.) Ничего не вижу… дай очки, другие… (Читает.) «Сударыня, только из любви к поэзии господина Лермонтова, коего почитаю как нового Баркова…» Что это? Насмешка? Издевательство? (Хочет порвать письмо, но удерживается.) «…и чьи несравненные перлы: „Уланша“ и „Петербургский гошпиталь“ наизусть знаю, взял я на себя скорбное и весьма опасное для меня поручение сообщить Вам о неприятности, постигшей вашего внука». Боже мой! Это не в шутку. Это всерьез, хотя и дурак писал. «Ваш внук находится под арестом и лишен связи с внешним миром…» Господи, не оставь! Ох, чуяло мое сердце!.. «Он взят под стражу за приписку к стихотворению „На смерть поэта“ и распространение оной…» Что я говорила, Аграфена? Знала, всегда знала, что не пройдет даром эта дерзость! Только обманывала себя. Обедом обманывала, шампанским, устрицами, цыганами!.. «Допрошенный графом Клейнмихелем, господин Лермонтов во всем признался и сейчас ждет решения своей участи. Видать, пошлют его на Кавказ в армию тем же чином усмирять непокорных горцев…» (Арсеньева издает глухой стон и закрывает лицо руками. Пересилив себя, читает дальше.) «Прошу Вас, милостивая государыня, письмо мое тотчас уничтожить. Я человек маленький, а коли сведают, что г-ну Лермонтову услужил, полный мне фиаско выйдет…» Болтун! Фиаско ему выйдет. (Никите.) Кинь в печку. А фиаско-то нам вышел. Полней некуда. Чего я больше всего боялась, то и случилось. Горцев усмирять!.. Как бы они не усмирили — пулей или кинжалом. Господи, всеблагой, не дошли мои молитвы, не тронули тебя? И чем я тебя прогневила, старуха жалкая, что отнимаешь всех, кого люблю? Ничего ты мне не оставил. Один внучек был, и того — под пули черкесские!.. (Ударяет себя кулаком в грудь. Аграфена подходит к ней, хочет усадить в кресло.) Отстань! Ступай в людскую: пусть всякое дело бросают и о благополучии раба божьего Михаила молятся. И чтоб поклоны клали истово. Кто шишек на лбу не набьет, задницей поплатится. (Аграфена выходит.) Господи, сохрани его под пулями, а уж я сама добьюсь прощения. Довольно слез, надо сильной быть, настойчивой и цепкой, как репей. Вцеплюсь в горло моим сородичам и вельможным друзьям, я старуха, мне все позволено. Сяду — не слезу, пока не вернут мне внука!..
В дверь просовывается страшная харя.
Кто таков? Ну и образина! Из преисподней, что ль? А, ряженые! (Подходит к дверям и широко распахивает створки.) Давай сюда! Не робей!
Вваливается жуткая, как в бреду, ватага в вывороченных тулупах, в немыслимом тряпье, волосы всклокочены, у кого мукой присыпаны, у кого свекольным раствором крашены; щеки горят от бодяги; накладные усы, бороды, приставные носы, рога. В руках — метлы, трезубцы, рогожные кули на палках.
А ну, ходи веселей, вшивая команда! Жги, не жалей сапог! Кружись, пляши, дери глотку! Всех вином напою! Никита, шампанского для дорогих гостей! А ну, наддай!..
Оробевшая поначалу, шатия загикала, засвистала, заблеяла, завизжала и пошла выкидывать коленца в чудовищной пляске кривляний вокруг Арсеньевой, И она сама притопывает избоченясь. Понурив голову, глядит на барыню верный Никита.
3
Тарханы — имение Арсеньевой. Светелка в барском доме, служащая Арсеньевой и малой гостиной, и комнатой для дневного отдыха. Мебель красного дерева; у окна рабочий столик, за которым прилежно трудится Аграфена; к стеклу прижалась щедро облиственная ветка клена. В углу божница; над диваном большой портрет императора Николая I.
Елизавета Алексеевна Арсеньева приметно изменилась за минувшие четыре года: голова совсем побелела, прибавилось морщин, в углах рта образовались две глубокие горькие складки. Но стан по-прежнему прям, движения сухи и четки, голос чист от старушечьего пришепетывания. Она все еще Марфа Посадница, хотя и побитая жизненными невзгодами и вечным страхом за единственного любимого.
Арсеньева. Растревожила меня графиня Ростопчина своими стихами. Уж лучше бы и не присылала. Лестно, ничего не скажешь, от доброй души написано. Она искренне Михаила Юрьевича любит, не просто любит, а преклоняется перед ним. Поэт поэта всегда поймет. Вынь-ка вату из ушей, послушай стихи.
Аграфена бросает на барыню укоризненный взгляд.
Ладно тебе! Слова нельзя сказать. Знаю, что лучше меня слышишь. Только стихи другим ухом слушают… Есть у тебя такое ухо, иначе б не стала читать. Экое самолюбие у старухи!