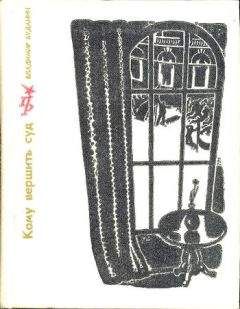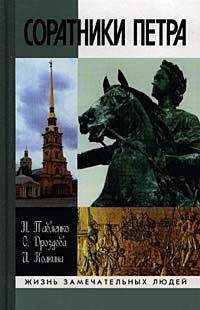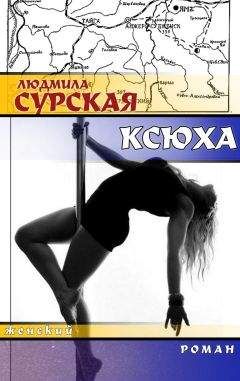Вошел еще один — очевидно, хозяин дома. У него было очень живое лицо с выпуклым лбом и глубоко спрятанными глазами. Именно этот господин впервые упомянул о Плеханове. Собственно, имени он не называл, но по тому, с каким злым сарказмом шла речь о людях, «растерявших убеждения свои на альпийских курортах», ничего не стоило догадаться, что имеется в виду именно живущий в Швейцарии Плеханов.
— Они там позабыли обо всех жертвах, понесенных нашим движением. Швейцарские курорты не располагают к пониманию особенностей народа. Где уж там помнить о том, что капиталистический расчет чужд самому духу русского мужика? Быть может, относительно Европы Маркс и прав, но для нас, для России…
— Простите, — Петр не сдержался. Он чувствовал, что лицо его пылает, и от этого еще больше злился. — Вы-то читали труды Маркса или Плеханова? Боюсь, что нет.
Господин с сигарой обернулся так быстро, словно над его ухом щелкнули бичом, и шагнул к двери. Присмотрелся к тем, кто там стоял. Определил, должно быть, по выражению лица Петра, что именно его мальчишеский голос только что прозвучал. Подошел, по-отечески потрепал Петра по плечу.
— Читал, юноша, читал. А вот вы, судя по всему, мало знаете о прошлом нашего движения, о героях наших. И…
— Спорить не стану. — Петр вскинул голову. — Об этом вы, очевидно, осведомлены лучше. Но это прошлое. А бороться следует во имя будущего. Вперед надо смотреть. Вот скажите: строительство железных дорог может оставить Россию в прежнем состоянии? А рудники, фабрики? Разве мужик, покинув деревню, остается прежним? Разве не делается он пролетарием, как пишет Маркс и как утверждает Плеханов? — Петр краем глаза увидел, что Михаил отошел к высокой голландской печи.
Только что казавшееся благодушным лицо господина с сигарой сделалось непроницаемым. Он уставился на Петра ледяным взглядом. Да и молчавшее до сих пор общество зашумело, заволновалось. Петра обступили, ему что-то доказывали, от чего-то убеждали отказаться. Не слыша ни слова, он кое-как возражал, не надеясь, разумеется, переубедить местную публику, но вместе с тем не желая и уступать.
Уехали они оттуда далеко за полночь. Холодный осенний дождь не ослабевал. Мостовая сияла отраженным светом газовых рожков. Не погасшие еще окна расплывались в дождевой завесе. Отчетливо цокали копыта. Извозчик лениво помахивал кнутом, словно отгоняя сон. Брызги осыпали лицо уколами — не спасал даже поднятый верх пролетки.
— А ты все же молодчина, Петр Красиков! — Михаил положил руку на плечо земляка. — Переполошил все общество. Как они на тебя насели! А ты не спасовал. Но ведь и суждения твои верные. Может ли случиться, чтобы Россию миновал капитализм? Им-то и крыть нечем.
Потом долго ехали в молчании.
— Спросить хочу, — Петр повернулся к Трегубову, как только они вошли в комнату. — Какого дьявола ты с господами этими знакомство водишь? Если время девать некуда, ходил бы лучше в Зимний буфф. Там оперетки показывают, шампанское подают, я слышал, девиц множество…
— Ты по какому праву меня, учишь? У меня-то в доме…
Как будто по лицу его хлестнули. Петр тотчас принялся заталкивать свои пожитки в чемодан. Собрался — и к двери. Михаил схватил его за руку:
— Ты что? Ишь какой обидчивый! Погоди, пошутил я.
Взбешенный, Петр выбежал из парадного и остановился. Литовский проспект был безлюден и темен. В необлетевшей листве шумел дождь. «Каков! Друг, называется! — В груди у него было тесно от негодования. — Приютил! Нет, не зря те, с Садовой, для него „самые замечательные люди“. Проживу и без его милостей…»
А дождь не унимался, и ночь делалась чернее, холоднее и непрогляднее. «Как быть? — внезапно подумал он. — Куда идти? Не стоять ведь всю ночь под дождем. К Андрею, что ли, отправиться?»
К Гурьеву — тот снимал комнатенку в полуподвале на Выборгской стороне — Петр заглядывал лишь однажды и вовсе не был уверен, что сумеет найти его.
Но делать было нечего, и он долго шел под все усиливающимся дождем по совершенно безлюдным ночным улицам. Шел и шептал, не в силах успокоиться: «Благодетель! Смилостивился…»
Свернул с Невского на Литейный, миновал мост через Неву. Промок насквозь. На Выборгской стороне не было ни огонька. Петр остановился на перекрестке. Стоял, дрожа от озноба и пытаясь сообразить, куда идти дальше, где искать дом Андрея.
Уже начинало светать, когда, наконец, увидел он трехэтажное кирпичное здание со ступеньками, ведущими к двери, наполовину вросшей в землю. Это был тот самый дом и та самая дверь.
Стучать пришлось довольно долго.
— Кто там? — прозвучал наконец недовольный сонный голос.
Минуту спустя он уже сидел у стола в убогом жилище Гурьева. Хозяин прикрыл одеялом неприбранную постель, ополоснул лицо над эмалированным тазом в углу тесной комнатенки и, ни о чем не спросив, лукаво подмигнул:
— Не печальтесь, уговорю хозяйку, поживете здесь, пока не подыщем чего-нибудь получше. А с Трегубовым вы, по-моему, и так чересчур долго уживались. Право, не понимал я этого и удивлялся.
— Чему? — Петр пожал плечами. — Земляки мы с ним все-таки, гимназические товарищи. А ведь это…
— Мало ли что! Нас теперь не землячество и не воспоминания о розовом детстве должны объединять, а идеи и цели в борьбе. Вот в этом-то, по-моему, у вас с Трегубовым не сыскать ничего общего. Вы человек твердый во взглядах, он же, насколько я могу судить, способен лишь примыкать к тем, у кого есть идеалы.
— Слишком благополучно жизнь у него складывается, чтобы твердость убеждений образовалась. Благополучие, оно не способствует этому. Вы согласны?
— Нисколько. Вот есть у меня приятель Арон Бесчинский — так он в день своего рождения уже был миллионером. Куда уж благополучнее. А вот ведь наш, совершенно наш. И брат его отца — народоволец, сосланный в Сибирь и погибший там… О! — прервал он себя. — Да вы дрожите. Озябли?
— Да, знаете, простыл я, кажется, — сознался Петр. — Как бы не захворать…
— Ничего, сейчас поможем беде.
Андрей укутал его одеялом, затем принес от хозяйки горячего чаю. Перекусив, Петр согрелся и почувствовал себя исцеленным.
Весь день они никуда не выходили. Рассказывали друг другу о себе и друзьях, мечтали. Петр узнал, что Андрей из Твери, что мать его, вдова мелкого чиновника, постоянно болеет и никак не дождется, когда он закончит учение и вернется домой. Затем Гурьев принялся расспрашивать Петра о Красноярске, тамошних ссыльных, их образе жизни, предмете споров. Особенно оживился он, когда услышал об Арсении. Кивал головой, улыбался, вздыхал.
— Большой человек, могучий ум погибает, — сказал он.